Закон единства формы и содержания. Основы композиции
Выступление на методическом объединении учителей гуманитарного цикла
ИЗУЧЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ В ЕДИНСТВЕ ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЯ – ВАЖНЕЙШИЙ СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ У ДЕТЕЙ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА
Мир литературного произведения - это всегда условный, создаваемый с помощью вымысла мир, хотя его «сознательным» материалом служит реальность. Художественное произведение всегда связано с реальной действительностью и в то же время не тождественно ей. В.Г. Белинский писал: «Искусство есть воспроизведение действительности, сотворенный, как бы вновь созданный мир». Создавая мир произведения, писатель структурирует его, помещая в определенном времени и пространстве. Д.С. Лихачев отмечал, что «преобразование действительности связано с идеей произведения»60, а задача исследователя - увидеть это преобразование в предметном мире. Жизнь - это и материальная действительность, и жизнь человеческого духа; то, что есть, то, что было и будет, то, что «возможно в силу вероятности или необходимости» (Аристотель). Нельзя понять природу искусства, если не задаваться философским вопросом, что же это такое - «весь мир», целостное ли это явление, как его можно воссоздать? Ведь сверхзадача художника, по замечанию И.-В. Гете, - «овладеть всем миром и найти ему выражение».
Художественное произведение представляет собой внутреннее единство содержания и формы. Содержание и форма - неразрывно связанные друг с другом понятия. Чем сложнее содержание, тем богаче должна быть форма. По художественной форме можно судить и о многообразии содержания.
Категории «содержание» и «форма» были разработаны в немецкой классической эстетике. Гегель утверждал, что «содержанием искусства является идеал, а его формой - чувственное образное воплощение». Во взаимопроникновении «идеала» и «образа»Гегель видел творческую специфику искусства. Ведущий пафос его учения - подчинение всех деталей изображения, и прежде всего предметных, определенному духовному содержанию. Целостность произведения возникает из творческой концепции. Единство произведения понимается как подчинение всех его частей, деталей идее: оно внутреннее, а не внешнее.
Форма и содержание литературы - «основополагающие литературоведческие понятия, обобщающие в себе представления о внешних и внутренних сторонах литературного произведения и опирающиеся при этом на философские категории формы и содержания». Реально форму и содержание разделить нельзя, ибо форма есть не что иное, как содержание в его непосредственно воспринимаемом бытии, а содержание есть не что иное, как внутренний смысл данной ему формы. В процессе анализа содержания и формы литературных произведений выделяются его внешние и внутренние стороны, которые находятся в органическом единстве. Содержание и форма присущи любому явлению природы и общества: в каждом из них есть внешние, формальные элементы и внутренние, содержательные.
Содержание и форма имеют сложное многоступенчатое строение. Например, внешняя организация речи (стиль, жанр, композиция, метр, ритм, интонация, рифма) выступает как форма по отношению к внутреннему художественному смыслу. В свою очередь, смысл речи является формой сюжета, а сюжет - формой, воплощающей характеры и обстоятельства, а они предстают как форма проявления художественной идеи, глубокого целостного смысла произведения. Форма - это живая плоть содержания.
Содержание может существовать только в материи, в форме. Всякое изменение формы есть одновременно изменение содержания, и наоборот. Разграничение таит опасность механического деления (тогда форма - только оболочка содержания). Исследование произведения как органического единства содержания и формы, понимание формы как содержательной, асодержания как сформированного - трудная задача.
Художественная литература - это множество литературных произведений, каждое из которых является самостоятельным целым.
В чем же заключается единство литературного произведения? Произведение существует как отдельный текст, имеющий границы, как бы заключенный в рамку: начало (это обычно заглавие) и конец. У художественного произведения есть и другая рамка, так как оно функционирует как эстетический объект, как «единица» художественной литературы. Чтение текста порождает в сознании читателя образы, представления о предметах в их целостности.
Произведение заключено как бы в двойную рамку: как условный мир, творимый автором, отделенный от первичной реальности, и как текст, отграниченный от других текстов. Нельзя забывать об игровой природе искусства, потому что в этих же рамках творит писатель и воспринимает произведение читатель. Такова онтология художественного произведения.
Критерий художественного единства в XIX в. объединял критиков разных направлений, но в движении эстетической мысли к «вековым правилам эстетики» неизбежным оставалось требование художественного единства, согласованности целого и частей в произведении.
Примером образцового филологического анализа художественного произведения может служить «Опыт анализа формы» Б.А. Ларина. Свой метод выдающийся филолог называл «спектральным анализом», цель которого - «раскрытие того, что "задано" в тексте писателя, во всю его колеблющуюся глубину». Приведем в качестве примера элементы его анализа рассказа М. Шолохова «Судьба человека»:
«Вот, например, из его (Андрея Соколова) воспоминания о расставании на вокзале в день отъезда на фронт: Оторвался я от Ирины. Взял ее лицо в ладони, целую, а у нее губы, как лед.»
Какое значимое слово "оторвался" в этой ситуации и в этом контексте: и "вырвался" из ее судорожных объятий, потрясенный смертельной тревогой жены; и "отторгнут" от родной семьи, родного дома, как лист, подхваченный ветром и уносимый вдаль от своей ветки, дерева, леса; и рванулся прочь, пересилил, подавил нежность - терзался рваной раной...
"Взял ее лицо в ладони" - в этих словах и грубоватая ласка богатыря "с дурачьей силой" рядом с маленькой, хрупкой женой, и ускользающий образ прощания с покойницей в гробу, порождаемый последними словами: "...а у нее губы, как лед".
Еще более незатейливо, словно совсем нескладно, простецки говорит Андрей Соколов о своей душевной катастрофе - о сознании плена:
Ох, браток, нелегкое это дело понять, что ты не по своей воле в плену. Кто этого на своей шкуре не испытал, тому не сразу в душу въедешь, чтобы до него по-человечески дошло, что означает эта штука.
"Понять" - здесь не только "уразуметь, что было неясно", а и "усвоить до конца, без тени сомнений", "утвердиться раздумьем в чем-то насущно потребном для душевного равновесия". Следующие отборно грубоватые слова поясняют это слово телесно ощутимым образом. Скупой на слова, Андрей Соколов здесь словно бы повторяется, но ведь не сразу скажешь так, чтобы "по-человечески дошло" до каждого из тех, "кто этого на своей шкуре не испытал"».
Думается, что этот отрывок наглядно демонстрирует плодотворность ларинского анализа. Ученый, не разрушая цельного текста, комплексно использует приемы как лингвистического, так и литературоведческого метода толкования, выявляя своеобразие художественной ткани произведения, а также идею, «заданную» в тексте М. Шолоховым. А ларинский метод называют л и н г в о п о э т и ч е с к и м.
Литературное произведение представляет собой целостную картину жизни (в эпических и драматических произведениях) или какое-либо целостное переживание (в лирических произведениях). Каждое художественное произведение, по словам В.Г. Белинского,- «это целостный, замкнутый в себе мир». Д.С. Мережковский дал высокую оценку толстовскому роману «Анна Каренина», утверждая, что «"Анна Каренина" как законченное художественное целое - самое совершенное из произведений Л. Толстого. В "Войне и мире" хотел он, может быть, большего, но не достиг: и мы видели, что одно из главных действующих лиц, Наполеон, совсем не удался. В "Анне Карениной" - все, или почти все, удалось; тут, и только тут, художественный гений Л. Толстого дошел до своей высшей точки, до полного самообладания, до окончательного равновесия между замыслом и выполнением. Если когда-нибудь он и бывал сильнее, то, уж, во всяком случае, совершеннее никогда не был, ни раньше, ни после».
Целостное единство художественного произведения определяется единым авторским замыслом и выступает во всей сложности изображаемых событий, характеров, мыслей. Подлинное произведение искусства представляет собой неповторимый художественный мир со своим содержанием и с выражающей это содержание формой. Объективированная в тексте художественная реальность - это и есть форма.
Неразрывная связь содержания и художественной формы - это критерий художественности произведения. Это единство определяется социально-эстетической целостностью литературного произведения.
Понятие художественной формы не следует отождествлять с понятием техники письма. «Что такое отделывать лирическое стихотворение, <...> доводить форму до возможного для нее изящества? Это, наверное, не что иное, как отделывать и доводить до возможного в человеческой природе изящества свое собственное, то или иное чувство... Трудиться над стихом для поэта то же, что трудиться над душой своей», - писал Я.И. Полонский. В художественном произведении прослеживается оппозиция: организованность («сделанность») и органичность («рожденность»). Вспомним статью В. Маяковского «Как сделать стихи?» и строчки А. Ахматовой «Когда б вы знали, из какого сора растут стихи...».
Содержание выражается через все стороны формы (систему образов, сюжет, язык). Так, содержание произведения предстает прежде всего во взаимоотношениях персонажей (характеров), которые обнаруживаются в событиях (сюжете). Это не просто - достичь полного единства содержания и формы. О трудности этого писал А.П. Чехов: «Надо рассказ писать 5 - 6 дней и думать о нем все время, пока пишешь... Надо, чтобы каждая фраза пролежала в мозгу два дня и обмаслилась... Рукописи всех настоящих мастеров испачканы,перечеркнуты вдоль и поперёк, потерты и покрыты латками, в свою очередь перечеркнутыми...».
Теория литературы
В теории литературы проблема содержания и формы рассматривается в двух аспектах: в аспекте отражения объективной реальности, когда жизнь выступает как содержание (предмет), а художественный образ как форма (форма познания). Благодаря этому мы можем выяснить место и роль художественной литературы в ряду других идеологических форм - политики, религий, мифологии и т. д.
Важно понять, что граница между содержанием и формой - понятие не пространственное, а логическое. Отношение содержания и формы - это не отношение целого и части, ядра и оболочки, внутреннего и внешнего, количества и качества, это отношение противоположностей, переходящих друг в друга. Л.С. Выготский в книге «Психология искусства» анализирует композицию новеллы И. Бунина «Легкое дыханье» и выявляет ее «основной психологический закон»: «Писатель, отбирая только нужные для него черты событий, сильнейшим образом перерабатывает... жизненный материал» и претворяет «рассказ о житейской мути» в «рассказ о легком дыхании». Он замечает: «Истинная тема рассказа - не история путаной жизни провинциальной гимназистки, а легкое дыхание, чувство освобождения и легкости, отраженное™ и совершенной прозрачности жизни, которые никак нельзя вынести из самих событий», которые соединены так, что утрачивают свою житейскую тягость; «сложные временные перестановки превращают повествование о жизни легкомысленной девушки в легкое дыхание бунинского рассказа». Им был сформулирован закон уничтожения формой содержания, который можно проиллюстрировать: первый же эпизод, в котором сказано о смерти Оли Мещерской, снимает то напряжение, которое испытал бы читатель, узнав об убийстве девушки, вследствие чего кульминация перестала быть кульминацией, эмоциональная окраска эпизода была погашена. Она «затерялась» среди спокойного описания платформы, толпы людей и пришедшего офицера, «затерялось» и самое главное слово «застрелил»: сама структура этой фразы заглушает выстрел.
К содержанию относятся внутренние, порождаемые восприятием литературы в нашем сознании явления: мысли, чувства, стремления, образы-персонажи, проблемы, темы, оценки автора. Под формой подразумеваются все внешние, воспринимаемые нами элементы произведения: композиция, язык, жанр и т. д.
Разграничение содержания и формы необходимо на начальном этапе изучения произведений, на этапе анализа.
Анализ (греч. analysis - разложение, расчленение) литературоведческий - изучение частей и элементов произведения, а также связей между ними.
Существует много методик анализа произведения. Наиболее теоретически обоснованным и универсальным представляется анализ, исходящий из категории «содержательной формы» и выявляющий функциональность формы по отношению к содержанию.
На результатах анализа строится синтез, т. е. наиболее полное и верное понимание как содержательного, так и формального художественного своеобразия и их единства. Литературоведческий синтез в области содержания описывается термином «интерпретация», в области формы - термином «стиль». Их взаимодействие дает возможность осмыслить произведение как эстетическое явление.
Каждый элемент формы имеет свой, определенный «смысл». Формане есть нечто самостоятельное; форма - это, по сути, и есть содержание. Воспринимая форму, мы постигаем содержание. А. Бушмин писал о трудности научного анализа художественного образа в единстве содержания и формы: «И другого выхода все-таки нет, как заниматься именно анализом, "расщеплением" единства во имя последующего его синтеза»73.
Анализируя художественное произведение, необходимо не игнорировать обе категории, а уловить их переход друг в друга, понять содержание и форму как подвижное взаимодействие противоположностей то расходящихся, то сближающихся, вплоть до тождества.
Уместно вспомнить стихотворение Саши Черного о единстве содержания и формы:
Одни кричат: «Что форма? Пустяки!
Когда в хрусталь налить навозной жижи -
Не станет ли хрусталь безмерно ниже?»
Другие возражают: «Дураки!
И лучшего вина в ночном сосуде
Не станут пить порядочные люди».
Им спора не решить... а жаль!
Ведь можно наливать вино в хрусталь.
Идеалом литературоведческого анализа всегда останется такое изучение художественного произведения, которое в наибольшей степени улавливает природу взаимопроникновенного идейно-образного единства.
Форма в поэзии (в отличие от прозаической формы) обнажена, обращена к физическим чувствам читателя (слушателя) и рассматривает ряд «конфликтов», образующих поэтическую форму, которые могут быть: -
лексико-семантическими: 1) слово в речи - слово в стихе; 2) слово в предложении - слово в стихе (слово в предложении воспринимается в потоке речи, в стихе стремится к выделению); -
интонационно-звуковыми: 1) между метром и ритмом; 2) между метром и синтаксисом.
В книге Е. Эткинда «Материя стиха» много интересных примеров, убеждающих в справедливости этих положений. Вот один из них. Для доказательства существования первого конфликта «слово в речи - слово в стихе» берется восьмистишие М. Цветаевой, написанное в июле 1918 г. На его тексте показывается, что местоимения для прозы - малозначительный лексический разряд, а в поэтических контекстах они получают новые оттенки смыслов и выдвигаются на первый план:
Я - страница твоему перу.
Все приму. Я белая страница.
Я - хранитель твоему добру:
Возращу и возвращу сторицей.
Я деревня, черная земля.
Ты мне - луч и дождевая влага.
Ты - Господь и Господин, а я -
Чернозем и белая бумага.
Композиционный стержень этого стихотворения - местоимения 1 и 2 лица. В 1 строфе намечено их противопоставление: я - твоему (дважды в 1 и 3 стихе); во второй строфе оно достигает полной отчетливости: я - ты, ты - я. Ты стоит в начале стиха, Я - в конце перед паузой резким переносом.
Контраст «белое» и «черное» (бумага - земля) отражает близкие и одновременно противоположные друг другу метафоры: влюбленная женщина - страница белой бумаги; она запечатлевает мысль того, кто является для нее Господином и Господом (пассивность отражения), а во второй метафоре - активность творчества. «Я женщины совмещает в себе черное и белое, - противоположности, которые материализуются в грамматических родах:
Я - страница (ж)
Я - хранитель (м)
Я - деревня, черная земля (ж)
Я - чернозем (м)
То же относится и ко второму местоимению, и в нем сочетаются контрасты, материализованные в грамматическом роде:
Ты мне луч и дождевая влага.
Перекличку близких и одновременно противоположных слов найдем и в таких фактически близких, сопоставленных друг с другом словах, как глаголы: Возращу и Возвращу., .и существительные: Господь и Господин.
Итак, я - ты. Но кто же таится за обоими местоимениями? Женщина и Мужчина - вообще? Реальная М.И. Цветаева и ее возлюбленный? Поэт и мир? Человек и Бог? Душа и тело? Каждый из наших ответов справедлив; но важна и неопределенность стихотворения, которое благодаря многозначности местоимений может быть истолковано по-разному, иначе говоря, обладает семантической многослойностью».
Все материальные элементы - слова, предложения, строфы - в большей или меньшей степени семантизируются, становятся элементами содержания: «Единство содержания и формы - как часто мы пользуемся этой формулой, звучащей вроде заклинания, пользуемся ею, не задумываемся над ее реальным смыслом! Между тем по отношению к поэзии это единство имеет особо важное значение. В поэзии все без исключения оказывается содержанием - каждый, даже самый ничтожный элемент формы строит смысл, выражает его: размер, расположение и характер рифмы, соотношение фразы и строки, соотношение гласных и согласных звуков, длина слов и предложений, и многое другое...» - замечает Е. Эткинд.
Соотношение «содержание - форма» в поэзии неизменно, но оно меняется от одной художественной системы к другой. В классицистической поэзии на первое место выдвигался одноплановый смысл, ассоциации были обязательными и однозначными (Парнас, Муза), стиль нейтрализовался законом единства стиля. В романтической поэзии смысл углубляется, слово теряет семантическую однозначность, появляются разные стили.
Е. Эткинд выступает против искусственного разделения содержания и формы в поэзии: «Нет содержания вне формы, потому что каждый элемент формы, как бы он ни был мал или внешен, строит содержание произведения; нет формы вне содержания, потому что каждый элемент формы, как бы он ни был опустошен, заряжен идеей»1.
Еще один важный вопрос: с чего надо начинать анализ, с содержания или с формы? Ответ прост: это не имеет существенного значения. Все зависит от характера произведения, конкретных задач исследования. Вовсе не обязательно начинать исследование с содержания, руководствуясь лишь той одной мыслью, что содержание определяет форму. Главная задача - при анализе уловить переход этих двух категорий друг в друга, их взаимообусловленность.
Художник создает произведение, в котором содержание и форма - это две стороны одного единого целого. Работа над формой есть в то же время работа над содержанием, и наоборот. В статье «Как делать стихи?» В. Маяковский рассказал о том, как он работал над стихотворением, посвященным С. Есенину. Содержание этого стихотворения рождалось в самом процессе создания формы, в процессе ритмической и словесной материи строки:
Вы ушли ра-ра-ра в мир иной...
Вы ушли в мир иной...
Вы ушли, Сережа, в мир иной... - эта строка фальшива.
Вы ушли бесповоротно в мир иной - разве кто умирал поворотно. Вы ушли, Есенин, в мир иной - это слишком серьезно.
Вы ушли, как говорится, в мир иной - окончательное оформление.
«Последняя строка верная, она, "как говорится", не будучи прямой насмешкой, тонко снижает патетику стиха и одновременно устраняет всяческие подозрения по поводу веры автора во все загробные ахиней», - замечает В. Маяковский. Вывод: с одной стороны, речь идет о работе над формой стиха, о выборе ритма, слова, выражения. Но Маяковский работает и над содержанием. Он не просто подбирает размер, а стремится сделать строку «возвышенной», а это категория смысловая, не формальная. Он заменяет в строке слова не просто для того, чтобы точнее или ярче выразить заранее готовую мысль, но и создать эту мысль. Изменяя форму (размер, слово), Маяковский тем самым изменяет и содержание строки (в конечном счете и стихотворения в целом).
Этот пример работы над стихом демонстрирует основной закон творчества: работа над формой есть в то же время работа над содержанием, и наоборот. Поэт не творит и не может творить форму и содержание по отдельности. Он создает произведение, в котором содержание и форма - это две стороны единого целого.
Как рождается стихотворение? Фет замечал, что произведение у него рождается из простой рифмы, «распухая» вокруг него. В одном из писем он писал: «Весь образ, возникающий в творческом калейдоскопе, зависит от неуловимых случайностей, результатом которых бывает удача или неудача». Можно привести пример, подтверждающий правоту этого признания. Прекрасный знаток творчества Пушкина С.М. Бонди рассказал странную историю рождения общеизвестной пушкинской строки:
На холмах Грузии лежит ночная мгла... Первоначально Пушкин написал так:
Все тихо. На Кавказ ночная тень легла...
Потом, как явствует из черновой рукописи, поэт зачеркнул слова «ночная тень» и записал над ними слова «идет ночная» оставив слово «легла» без всяких изменений. Как же это понять? С. Бонди доказывает, что в творческий процесс вмешался случайный фактор: поэт написал слово «легла» беглым почерком, и в букве «е» не получилась ее закругленная часть, «петелька». Слово «легла» выглядело как слово «мгла». И эта случайная, посторонняя причина натолкнула поэта на иной вариант строки:
Все тихо. На Кавказ идет ночная мгла...
В этих весьма различных по смыслу фразах воплотилось разное видение природы. Случайно возникшее слово «мгла» смогло выступить как форма творческого процесса, форма поэтического мышления Пушкина. Этот частный случай обнажает общий закон творчества: содержание не просто воплощается в форме; оно рождается в ней и может родиться только в ней.
Создание формы, которая соответствует содержанию литературного произведения, - процесс сложный. Он требует высокой степени мастерства. Недаром Л.Н. Толстой писал: «Страшное дело - эта забота о совершенстве формы! Недаром она. Но недаром тогда, когда содержание доброе. Напиши Гоголь свою комедию ("Ревизор") грубо, слабо, ее бы не читала и одна миллионная тех, которые читали ее теперь». Если содержание произведения «злое», а его художественная форма безупречна, то происходит своеобразная эстетизация зла, порока, как, например, в поэзии Бодлера («Цветы зла»), или в романе П. Зюскинда «Парфюмер».
Проблему целостности художественного произведения рассматривал Г.А. Гуковский: «Художественной идейно ценное произведение не включает в себя ничего лишнего, т. е. ничего такого, что не было бы необходимо для выражения его содержания, идеи, ничего, даже ни одного слова, ни одного звука. Каждый элемент произведения значит, и только для того, чтобы значить, он и существует на свете... Элементы произведения в целом составляют не арифметическую сумму, а органическую систему, составляют единство его значения... И понять это значение-понять идею, смысл произведения, игнорируя некоторую часть компонентов этого значения, - невозможно».
Основное «правило» анализа литературного произведения - бережное отношение к художественной цельности, выявление содержательности его формы. Литературное произведение получает большое общественное значение только тогда, когда оно художественно по своей форме, т. е. соответствует выраженному в ней содержанию.
Исходя из эстетической природы искусства критик в своем анализе должен стремиться рассматривать содержание и форму художественных произведений в их диалектическом единстве. Этот принцип связан с предыдущим и в определенной степени обусловлен им. Связь формы и содержания подчеркивал Гегель и писал, что содержание есть переход формы в содержание, а форма есть переход содержания в форму. В настоящее время известен тезис Г.Н. Поспелова о содержательной форме.
Диалектическая взаимозависимость формы и содержания и их взаимопереходность составляет идеал художественного творчества, который исчерпать до конца никому не удавалось, так как между формой и содержанием всегда существует определенное противоречие. Оно составляет объективную неизбежность художественного развития, поэтому обычно говорят о мере соответствия избранной автором формы данному идейно-художественному содержанию.
Выделять в нечто особое «содержание» или «идейное содержание» можно только условно, только в некоторых аналитических контекстах, в рабочих целях. Одновременно нельзя искусственно отделять форму от содержания (ошибка формалистов и формалистических теорий).
Целостность формы создается системой взаимосвязей и взаимообусловленностей элементов в этой целостности, поэтому единый смысл произведения не суммируется их отдельных частей, а интегрируется, отсюда реальная многослойность формы, насыщенной многослойным смыслом (может быть, по замыслу автора, а может быть, и вопреки его желанию).
Движение аналитического восприятия художественного произведения – это движение вглубь его смысла путем перехода с одного, более внешнего, на другой, более внутренний уровень содержательной формы.
Распространенная ошибка критиков – «снятие пенок» смысла, внешнее лежащее на поверхности толкование произведения, не вникающее в глубины целостности его содержания и формы, в результате чего пропадает многомерность произведения, внутренний пафос художника.
Критик должен понимать объективную многоступенчатость, многослойность образно-содержательной формы. М.Сапаров выделяет три основных слоя содержательной формы:
Слой материального образования – объекты непосредственно чувственного восприятия (понятия техники исполнения, техника стихосложения, элементы авторской речи, способы съемки и т.д.);
Слой предметно-представимого – слой образной реконструкции (сюжет, композиция, жанр);
Слой предметно-непредставимого – слой художественного значения (стиль, цельность восприятия произведения).
Все компоненты формы находятся во взаимодействии, но они же обладают определенной самостоятельностью по отношению друг к другу. Отдаленные друг от друга элементы связаны косвенно, опосредованно, поэтому ошибкой будет слишком прямолинейное соотнесение некоторых элементов художественной формы друг с другом (А.А. Потебня – «слово имеет все свойства художественного произведения»).
Структуралисты предлагают заменить якобы устаревшие категории формы и содержания понятиями элемента и структуры. В отличие от структуралистского подхода, который ставит задачу найти в произведении преимущественно устойчиво-стабильные, повторяющиеся элементы, критический анализ рассматривает явление искусства прежде всего как неповторимость, обусловленную определенными объективными и субъективными факторами (не состояние произведения, а его жизнь). Особенно очевидны эти различия, когда структурализм прибегает к математическим методам исследования. Пока значительных результатов в проникновении в мир художественного произведения машинными или математическими способами достигнуто не было. Структурный анализ может быть только частью общего критического анализа, так как он совершенно не учитывает исторический подход к явлениям действительности.
Соответствие формы и содержания важно обеспечить в издели для лучшего его функционирования в соответствии с назначением, в связи с окружающей средой, а также для эмоционального воздействия. Художественная форма должна раскрывать функциональное назначение изделия, его значимость, радовать человека полезностью предмета. Человек не должен утомляться сложностью формы или представлять себе что-то несвойственное данному предмету, получив дезинформацию о его назначении. Мебель для кухни не должна производить эффект горячего цеха красным цветом, так как на кухне тепло от плиты и поэтому «холодные» тона более приемлемы. Кресло у парикмахера не должно напоминать кресло зуб-
ного врача, а кресло в театре не может по высоте быть одинаковым с креслом судьи, олицетворяющим высокое значение правосудия.
Применением специальных художественных приемов дизайнер может передать ощущение тяжести, массивности, прочности или легкости, парения в воздухе, динамичности или неподвижности предмета. Чередованием одинаковых элементов формы и разной степенью их учащения можно придать изделию эмоциональное воздействие ритма и направленности движения. То же можно осуществить, если силуэт изделия выполнить с нарастанием или убыванием массы.
Применяя цветовые колористические решения, можно создавать вид повседневности или парадности, динамичности, солнечности и сумерек. У разных людей и целых народов одни и те же цвета могут вызывать разные ассоциации. Чаще всего это связано с природными условиями проживания. Например, южане и северяне могут по-разному относиться к светлой и темной окраске мебели. Образные формы, взятые из природы и стилизованные, тоже могут вызывать разные эмоции у разных народов.
Целостность, композиционное единство формы отдельного изделия и ансамбля изделий, является одним из условий усиления эмоционального воздействия на человека. Как и все системное в природе, целое - это не сумма составляющих его элементов, так как в нем, кроме особенностей этих элементов, появляются новые особенности, дополняющие воздействие частей. В этом случае говорят о композиционной связи в дополнение к функциональной и конструктивной.
В каждом произведении искусства всегда присутствует композиционный замысел со своей структурой частей, иерархией главенствования их между собой, взаимозависимостью и дополнением друг друга. Главный замысел в композиции обычно выделен более наглядно, масштабно, второстепенный - более мел-кими штрихами. Так, фасад корпусной мебели оформляют всегда нагляднее, чем остальные поверхности, и его облицовку делают, как правило, натуральным строганым шпоном, в котором под слоем лака проявляется красота текстуры, а элементы декора и художественная фурнитура, подобранные к текстуре древесины, дополняют эстетическое восприятие, образуя единую композицию, созданную по единому замыслу. При непрозрачной однотонной отделке эмалью главное воздействие производится за счет декоративных элементов и фурнитуры. Расположение ансамбля изделий в стеллажной или в секционной мебели секции разных по функциональному назначению составляют так, чтобы они образовывали единую композицию с художественно-системным расположением их фасадных поверхностей, продуманным чередованием высоты изделий, учетом количества однотипных повторяемых элементов.
При этом главное в композиции может быть в центре или с одного края, а остальные части оформления должны иметь направленность к главному, создаваемую учащением ритма, асимметричностью форм изделий, масштабностью их элементов. Разобранный на части такой ансамбль теряет композиционную целостность.
Для изделий, наблюдаемых объемно, например кресел, стульев, столов, целостность, композиционное единство ансамблей требует проработки логичности объемно-пространственной структуры каждого изделия и всего ансамбля в целом. Сложность этого решения состоит еще и в том, что ансамбль должен быть привлекателен при разных положениях и поворотах изделий (стульев и др.), т. е. при изменении объемно-пространственной структуры. Художественный талант, развитые вкус и фантазия в сочетании с большим трудом по проработке многих вариантов композиции на макетах - главные составлющие успеха дизайнера.
Еще одним условием композиционного единства является общность стилевого решения всех элементов ансамбля. Через ряд элементов изделия или ансамбля должно пройти что-то единое стилевое, хотя они могут отличаться нюансами пластики или жесткости форм. Так, обеденный стол и стулья вокруг него могут иметь ножки сходные по очертанию. В ансамбль могут входить изделия не только одного утилитарного назначения, но и любые другие, например мебель, торшеры, вазы с цветами, скульптуры, элементы ландшафта и др. Все предметы ансамбля должны организовываться в пространстве, взаимно дополняя друг друга.
Ансамбль изделия композиционно подчиняется главному назначению. Например, в кухонной мебели изделия расставляют так, чтобы удобнее и экономичнее работать при приготовлении пищи: пути передвижения должны быть минимальными, работать можно было бы сидя, для большего простора табуреты, холодильник, мойку, шкафы для посуды и продуктов располагать целесообразно, архитектурно связанно, а все разнообразное содержимое прятать за дверцы во избежание дисгармонии.
В художественном отношении ансамбль может быть построен не только на основе сходства, но и на контрастах форм, величин, пропорций, цвета, фактуры, отделки, по единому замыслу, с образованием единой композиции.
Пропорциональность, или соразмерность, линейных величин, площадей и объемов всех элементов композиционной системы друг с другом и со всем ансамблем в целом эмоционально и логически воздействуют на человека.
Большинство зданий крупнейших архитекторов прошлого особенно выделяются этим достоинством, например здание Мос-
совета. Так, архитектор В. В. Растрелли запроектировал для помещений Зимнего дворца с высокими потолками стулья с более высокими спинками, где они хорошо сочетались с высотой помещения. Некоторые из придворных, подражая царским покоям, заказали себе такие же стулья, но в помещениях с низкими потолками они смотрелись уродливо, так как были нарушены пропорции.
Одним из приемов достижения гармонии ансамбля может служить изменение пропорций деталей переднего и заднего планов композиции. Для пропорций предметов существуют формальные правила оптимальных пропорций золотого сечения, динамического квадрата и конкретных указаний о пропорциях идеальной человеческой фигуры (мужчины, женщины, ребенка). По правилу золотого сечения (ряд Фибоначчи) сумма длины и ширины предмета должна так относиться к его длине, как длина к ширине, т. е. длина к ширине иметь соотношение 0,618:0,382. При применении пропорций «малой функции» берут соотношение 0,528: 1. Правило применяют и к расчету пропорций сечений элементов профилируемых погонажных деталей.
Применение только этих правил при построении формы еще не делает ее гармоничной, требуется, чтобы и другие компоненты системы способствовали гармонии. Учитывается также особенность зрения в том что горизонтальные и вертикальные размеры воспринимаются по-разному: у квадрата горизонтальный размер кажется больше, чем вертикальный. Для устранения этого оптического обмана используют построение динамического квадрата с увеличением вертикальной стороны на "/12, т. е. соотношение а: (а + а/12).
Тектоничность - относится также к важнейшим достоинствам эстетической выразительности форм, благодаря которой осмысленно выявляются свойства материала, из которого сделано изделие. Для каждого материала подбираются свои формы, по-своему характеризующие как сам материал, так и его технологию. Например, древесина особо ценных экзотических пород имеет красивую текстуру, и ее используют для облицовывания только тонким слоем. С учетом технологии наклеивания выбирают формы чаще плоские или криволинейные с большим радиусом закругления, определенной ориентацией годовых слоев. Применение лака с коэффициентом преломления света в его пленке, близким к коэффициенту преломления света древесины, углубляет видимый слой текстуры, делает ее еще более привлекательной. Формы массивной древесины ножек столов и стульев демонстрируют их прочность, надежность, а ориентация волокон указывает на учет анизотропии древесины, фасонная форма говорит о легкости обработки, хотя и с потерями части материала.
Древесина хорошо тонируется, и это открывает дополнительные возможности раскрыть ее многообразие как материала для эстетического воздействия своей неповторимостью.
В целях экономии древесины, с учетом технологичности пластмасс из них стали делать стулья и кресла сложных форм, а в корпусной мебели используют фасонные элементы декора, заменяя ими резные детали из ценных пород. Благодаря прочности металла и компактным соединениям сваркой сечения деталей мебели-подставки уменьшены, и это вызывает необходимость изменить форму изделия в целом. Узкие кромки деревянных щитов закрывают синтетическими пленками с имитацией, что облегчает технологию их изготовления. Сочетание армирующих тканей с полимерными материалами позволяет создавать новые формы каркасов мягкой мебели, например типа раковин, или в стиле ретро. Развитие технологии идет одновременно с изменением применяемых материалов и конструкций изделий.
Масштабность - одно из средств художника, заимствованных из природы, в которой малые предметы, как правило, по форме менее сложные, чередуются с большими, более сложными. В предметной среде, создаваемой человеком, принцип масштабности должен соблюдаться и в архитектурных формах изделий, прежде всего в том, что более крупные детали выполняют более развитыми по рисунку, т. е. такими, как будто мы видим их ближе, а мелкие делают меньше, как будто они отстоят от нас дальше. Например, фурнитура на больших дверях может быть крупнее, чем на малых, но иметь при этом стилевую общность форм.
Изделия с размерами, создающими ложное представление, называют немасштабными. Немасштабной, например, окажется тумбочка спального гарнитура на громоздких ножках одинакового размера с ножками шкафа. Ткани для обивки мягкой мебели могут иметь крупный или мелкий размер узоров (раппорт) в зависимости от размера изделий. Предметы мебели должны быть масштабны по отношению к комнате, в которой они находятся, и людям, которые в ней живут.
Соответствие окружающей среде - следующее из основных правил конструирования изделий. Поскольку в природе все взаимосвязано, то и у человека выработалось чувство гармонии или дисгармонии окружающей среды. Это предъявляет требования как бы к раздвиганию рамок композиции при проектировании изделий - учету влияния форм окружающей среды. Прежде всего определяют объемно-пространственные формы самого предмета с учетом места его размещения и окружения. Так, телевизор может стоять в виде отдельного предмета на ножках, либо на специальной тумбе, либо находиться в нише одного из шкафов набора мебели. В первом случае его формы решаются как объемная скульптурная композиция, во втором
еще связаны с формой и цветом тумбы, в третьем все внимание уделено передней панели, которая должна сочетаться с оформлением шкафа. Решение формы одного изделия зависит от формы и размеров всех изделий ансамбля. Так, кухонные столы с обязательными для кухни мойкой, плитой, холодильником должны составлять единый ансамбль.
Размеры и масштаб изделий зависят не только от назначения, но и от их окружения и роли в данном ансамбле. От среды зависит и выбор материала, отделка предмета, его цветовое решение. Здесь учитывают образное содержание среды и психофизиологические требования, конкретные условия (температуру, освещение, погоду), а также эргономические установки выделения определенными цветами каких-то зон или мест-носителей опасности.
Между предметом и средой возникают функциональные и эстетические связи - все представляет собой единую систему, которую необходимо системным анализом раскрыть и логично, художественными средствами увязать в процессе проектирования этого предмета. В одном месте нужно будет отказаться от излишней яркости, в другом лучше выделить предмет, в третьем создать единую смысловую композицию. В некоторых случаях требуется учет возрастного фактора, традиций в одежде и быту людей определенного региона, например среднеазиатского обычая сидеть на коврах с их цветовым решением и орнаментом.
Неотъемлемым качеством истинных произведений литературы и искусства является сочетание высокой идейности с художественным совершенством, единство содержания и формы.
Взаимоотношения содержания и формы
Этот вопрос - один из центральных в эстетике и литературоведении. Сложность его раскрытия обусловливается тем, что сами понятия содержания и формы диалектически взаимосвязаны и переходят одно в другое. Отсюда и незакрепленность определений за понятиями: то, что в одной связи выступает в качестве содержания, в другой является формой, и наоборот. В этом смысле философские категории формы и содержания подобны понятиям причины и следствия - они так же "неуловимы" в своих взаимных переходах. Их надо рассматривать диалектически. В. И. Ленин пишет: "Причина и следствие, ergo, лишь моменты всемирной взаимозависимости, связи (универсальной), взаимосцепления событий, лишь звенья в цепи развития материи" * . Это ленинское указание, как и общее его замечание о том, что "понятия не неподвижны", помогает разобраться и в вопросе о взаимоотношении содержания и формы.
* (В. И. Ленин. Поли. собр. соч. т. 29, стр. 143. )
Марксистско-ленинское учение рассматривает содержание и форму в диалектическом единстве и взаимопроникновении. В этом единстве, однако, примат за содержанием, которое, изменяясь, ведет к изменению формы. Последняя более консервативна, и поэтому между новым содержанием и старой формой может возникнуть противоречие, требующее обновления формы. Народная мудрость гласит: нельзя наливать молодое вино в старые меха: либо меха лопнут, либо вино скиснет. И форма не безразлична к содержанию. Она, оформляя содержание, в свою очередь, воздействует на него. В. И. Ленин подчеркивает: "Форма существенна. Сущность формирована. Так или иначе в зависимости и от сущности..." * .
* (В. И. Ленин. Поли. собр. соч. т. 29, стр. 129. )
Нужно учитывать и то, что, будучи зависимой от содержания, художественная форма не уникальна: общее содержание допускает множество форм. Именно поэтому можно говорить о различных национальных формах единого социалистического содержания.
В самом широком смысле искусство - особая форма отражения объективного мира, одна из форм общественного сознания. Но и само искусство имеет свое содержание и свою форму.
Относительно этих понятий высказывались различные суждения. Эстетики, подходившие к вопросу с идеалистических позиций, говорили, что содержанием искусства являются идеи. При этом они опирались на учение Гегеля, считавшего содержанием искусства "абсолютную идею". В конечном итоге все идеалистические теории, связывающие содержание с выражением "абсолютной идеи", "мировой воли" или "божественного откровения", ведут к субъективизму в искусстве, к искаженному представлению о действительности.
Крайним проявлением идеализма являются высказывания современных формалистов и абстракционистов, стремящихся выхолостить из искусства его реальное содержание и проповедующих культ бессодержательной формы. Они заявляют, будто произведения художника могут лишь доставлять наслаждение бесцельной игрой линий, цветов, звуков. Сторонникам сюрреализма идеалистические теории служат основой для обоснования мистического содержания искусства. Имеют место и попытки подменить вопрос о содержании искусства рассуждениями о его функциях с выпячиванием на передний план "биологического содержания".
Материалистическая эстетика исходит из утверждения о том, что творчество отражает реальную действительность. При этом надо отличать взгляды подлинно материалистические от вульгаризаторских, которые проявлялись в различных, порой противоположных, суждениях. С одной стороны, некоторые теоретики отождествляли содержание искусства с отражаемой им действительностью, говоря о ней как о содержании искусства; с другой стороны, высказывались суждения, будто содержанием искусства являются определенные общественные идеи.
Последовательно материалистическим будет определение с одержания как художественно отраженной действительности. В произведениях искусства действительность изображается художником в свете определенного мировоззрения. Учитывая это, мы осознаем и реальную базу творчества, и роль мировоззрения, определяющего видение мира.
Поскольку искусство изображает осознанную художником действительность, содержание его является идейным содержанием. Анализируя идейное содержание литературно-художественного произведения, мы выясняем и понимание жизни автором, и данную им оценку. Все это выступает в системе образов, ибо образ и является формой выражения идейного содержанияв художественном произведении. В свою очередь, образ выступает как содержание по отношению к средствам его воплощения. В каждой области искусства образ создается с помощью характерных для нее выразительных средств. Такими средствами в живописи являются, в первую очередь, линии, цвет и светотени, в скульптуре- пространственные и объемные формы, в музыке - звуки, особым образом переработанные. Л. И. Тимофеев отмечает: "...Язык есть форма по отношению к образу, как образ есть форма по отношению к идейному содержанию произведения" * . Следует к этому добавить, что все стороны речевого повествования, композиция, ритмико-интонационные средства помогают лучше передать содержание образа и таким путем содействуют раскрытию содержания.
* (Л.И. Тимофеев. Проблемы теории литературы. М" 1955, стр. 79. )
Такова диалектическая соотносительность понятий содержания и формы в искусстве, литературе. Остановимся подробнее на каждом из них.
Выше отмечалось, что содержанием произведения является художественно отраженная действительность. Она предстает в конкретных картинах человеческой жизни. Эти картины отбираются, группируются и осмысливаются писателем так, что в них проглядывает авторское видение мира, его тенденция. Тенденция эта связана с проблемой произведения, т. е. тем общественным вопросом, разрешение (или постановка) которого дается автором.
Так, в поэме "Кому на Руси жить хорошо" Н. А. Некрасов, повествуя о судьбе народной в до- и пореформенную эпоху, дает ответ на поставленный в заглавии вопрос. Автор, осмысливая проблему счастья с классовых позиций, утверждает, что счастье народа может быть достигнуто лишь в борьбе против самодержавно-помещичьего строя, опорой которому служили Оболт-Оболдуевы и Шалашниковы, в революционном преобразовании действительности. Именно к этому призывает Гриша Добросклонов, представитель передовой разночинной интеллигенции, чей образ венчает в поэме галерею типов народных заступников, отражающих различные формы зреющего в народной массе протеста.
Проблема истинно художественного произведения всегда имеет общественный характер, отражает искания людей, освещенные с определенных мировоззренческих позиций. Отсюда и закономерность того, что идеи художественных произведений перекликаются в определенной мере с теми, которые выступают в социологии, политике, философии, науке. Но нельзя их отождествлять. Идея художественного произведения раскрывается в системе образов, а идея в научных, философских, социологических работах выражается непосредственно. В связи со спецификой искусства идея художественного творения имеет свои характерные особенности.
Как правило, она не лежит на поверхности. Ф. Энгельс писал, что, по его мнению, тенденция реалистического художественного произведения "должна сама по себе вытекать из обстановки и действия, ее не следует особо подчеркивать..." * . Правда, в ряде случаев выявление идеи облегчается публицистическими элементами, которые могут органически вплетаться в художественную ткань произведения. Они, скажем, могут выступать в форме авторских отступлений, обращенных непосредственно к читателю (например, в беседах с "проницательным" читателем в "Что делать?" Чернышевского), или и в форме философских раздумий ("Война и мир" Л. Толстого).
* (К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве. Т. 1, стр. 5. )
Лирика знает особый философский жанр, где объектом непосредственного изображения может служить сама мысль, выраженная в отвлеченной афористической форме. Известны и публицистически заостренные произведения, имеющие большую oсилу идейно-эмоционального воздействия (агитационная поэзия Маяковского, Хикмета, драмы Брехта и др.).
Авторская тенденция может отчетливо выступать в характеристиках персонажей, субъективно-авторских оценочных эпитетах, сравнениях. Так, карамзинская характеристика персонажей и ситуаций в "Бедной Лизе", система эпитетов дают яркое представление о том, какую идею хотел раскрыть автор. Здесь, однако, возникает вопрос иного плана - о возможности расхождения авторской идеи с объективной, но и в таких случаях авторские позиции должны быть глубоко продуманы исследователем.
Идея художественного произведения вместе с тем имеет и конкретный, и обобщающий характер, что связано с диалектико-двойственной сущностью самих образов. Забвение этого ведет к упрощенчеству, к пренебрежению спецификой творчества.
Нельзя определять идею слишком общо. Понятно, что при определении идеи возникают трудности, связанные с необходимостью "перевести" на научный язык то, что выражено языком художественным. Однако их надо преодолеть, учитывая при этом, что писатели, изображая даже сходные явления действительности с единых мировоззренческих позиций, каждый раз создают своеобразное произведение, которому присуща своя тема и своя идея.
Так, событиям коллективизации сельского хозяйства в нашей стране посвящены и "Поднятая целина" Шолохова, и "На Иртыше" Залыгина, и другие произведения, в которых советские писатели с позиций коммунистической партийности изображают исторические события определенного периода. Естественно, что поэтому многое роднит названные произведения. Однако они во многом и различны: у каждого художника свой подход к трактовке общих проблем, свои аспекты, свои эстетические принципы, свой творческий почерк и, конечно, своя мера таланта.
Если обратиться к "Поднятой целине", нетрудно обнаружить, в какой мере ее своеобразие связано и с местом действия, и с особым вниманием к образу Семена Давыдова, представителя питерского пролетариата, стойкого коммуниста. Раскрытие роли партии в проведении коллективизации обусловлено и другими образами коммунистов, среди которых и сельские руководители (Разметнов, Нагульнов), и секретари райкома. Наряду с этим важное место в "Поднятой целине" занимают искания Майданникова, в лице которого дан характерный образ середняка. Победа нового в станице показана как результат упорной борьбы против прямых врагов Советской власти, группировавшихся в союзе "Освобождение родного Дона", а также против пережитков частнособственнической психологии и сословных предрассудков определенной части казачества. Художник правдиво изобразил и то, как пагубно отражались различные перегибы на проведении коллективизации. При всем этом большое внимание уделено и личной жизни персонажей, быту, тем нитям, которые связывают общее с личным. Таким образом, широко изображая жизнь и искания донского казачества в конкретно-исторический период, автор особое внимание уделил раскрытию руководящей роли партии в проведении коллективизации.
В вышедшей значительно позже популярного романа М. Шолохова повести С. Залыгина также отражены события коллективизации. Но здесь действие происходит в иных местах, что сказывается и на повествовании. В центре внимания автора "На Иртыше" несколько иные вопросы, да и масштабы здесь не те. В подзаголовке указывается: "Из хроники села Крутые Луки", Крупным планом в повести выписан образ крестьянина-сибиряка Степана Чаузова, человека с крутым характером и трудной судьбой. В начале мы видим Степана спасающим от огня колхозный амбар с зерном, а в конце - его выселение из села как "кулака и людям вражину". Образ Чаузова изображен художественно правдиво, и судьба его отражает "кусок" жизненной правды. Но в дилогии Шолохова судьба середняка Майданникова, его образ имеет более широкий общественный смысл.
Не так широко, как в "Поднятой целине", в повести "На Иртыше" раскрываются идеи партийного руководства коллективизацией. Здесь особо заостряются вопросы истинной и ложной принципиальности, верно и примитивно понимаемого долга перед людьми, народом, родиной.
Определяя идею каждого произведения, нельзя не учитывать того, что смысл истинно художественного произведения неизмен но шире его конкретной или непосредственной идеи.
Если вернуться к роману М. Шолохова, нетрудно обнаружить, что писатель вскрыл многие существенные стороны процесса коллективизации, характерные не только для донских мест. Герои "Поднятой целины" - типичные представители различных социальных слоев донского казачества, они вобрали в себя характерные черты, которые можно отнести к самому широкому кругу лиц. В этих конкретных, частных образах выступает и общее, общечеловеческое. В самом деле, разве принципиальность, самоотверженность и душевная щедрость Давыдова, так своеобразно проявляющиеся в романе, не являются теми качествами, которые всегда характеризовали и характеризуют настоящего Человека? Разве не вошел в галерею "вечных" образов дед Щукарь, имя которого стало нарицательным в народе?! Разве, наконец, не вскрыл в своем романе писатель и некоторые существенные общие закономерности борьбы нового со старым?! Вот почему, разбирая конкретно идею произведения, мы должны в то же время осознавать и ее обобщающий смысл.
Характеризуя идею художественного произведения, мы имеем в виду идею истинную; лишь она может получить глубокое раскрытие, в то время как ложные (нежизненные) идеи по сути своей антихудожественны. Потому закономерно поражение Н. В. Гоголя при попытке создать идеальные образы генерал-губернатора, помещика и откупщика во втором томе "Мертвых душ". Попытка была безуспешной, ибо сама жизнь не только не давала, ноине могла дать материал для подобных образов,
Истинной является та идея, которая глубоко отражает отношения между людьми, выражает существенное, вскрывает объективные законы общественного развития и человеческого бытия. Ложная идея представляет все это в иллюзорном, кажущемся автору (или сознательно искаженном) виде. Поэтому сама действительность как бы мстит художнику за искажение ее природы, ее законов. Ярким примером являются "антинигилистические" романы Н. С. Лескова ("Некуда", "На ножах"). Имя писателя - "волшебника слова" - прославили многие произведения, в которых он глубоко показал картины русской жизни, талантливость и богатство души народной ("Человек на часах", "Пигмей" и др.), трагедию народных талантов в царской России ("Тупейный художник", "Левша", "Очарованный странник" и др.). Закономерно, что пути художественного роста писателя были связаны с глубоким постижением жизни, выражением истинных идей. Однако в произведениях 60-х - начала 70-х годов Лесков, находясь в плену либеральных влияний, стремился выразить ложные идеи при изображении революционеров-шестидесятников. Он хотел.показать передовую молодежь как "политических демагогов", бездельников. Такая тенденциозность сказалась на типизации, и вместо полнокровных образов получились плоские карикатуры.
Расхождение между авторской идеей и объективной могут быть различными. Читатель или критик может сделать из произведения и более глубокие выводы, чем мыслил писатель. Так, революционно-демократическая критика, выясняя объективный смысл произведений Н. В. Гоголя, делала более революционные выводы, чем предполагал сам автор. Известны и такие случаи, когда творения художника служили не тем общественным силам, выразителем которых хотел быть он, художник.
Чем же объясняется возможность расхождения между идеей авторской и объективной?
Писатель силой своего творческого воображения создает картины, в которые должен поверить читатель. Художественный образ как бы оживает в сознании читателя и воспринимается и как произведение искусства, и как жизненный факт. Отсюда возможность различного понимания и различной оценки изображенного писателем и воспринимаемого читателем, зрителем (или критиком) с точки зрения своего опыта, своего понимания жизни, своего мировоззрения.
В тесной связи с пониманием идеи находится представление о пафосе художественного произведения. Пафос, по меткому определению В. Г. Белинского, - это "страсть, выжигаемая в душе человека идеею". Она воодушевляет художника на создание произведения, она же придает ему основной тон. Например, мы говорим: основной пафос поэзии В. Маяковского в выражении советского патриотизма. Этот пафос накладывает отпечаток на все произведение и, в частности, на его эмоциональность. Горячая заинтересованность художника в предмете своего суждения придает произведению ту силу страсти, которая воодушевляет читателя и зрителя.
Переход из содержания в форму
Переход содержания в форму осуществляется, в первую очередь, в образах. Идейный замысел автора как бы оживает в конкретных картинах человеческой жизни. Так, образы Онегина, Ленского, Татьяны, их мысли, переживания, поступки и чаяния дают нам возможность понять представления А. С. Пушкина о дворянской молодежи 20-х годов XIX в. в России. В образах молодогвардейцев, их действиях и устремлениях А. А. Фадеев раскрывает внутренний мир и борьбу советской молодежи в годы Великой Отечественной войны.
Л. И. Тимофеев справедливо отмечает, что "переход содержания в форму в литературном произведении осуществляется прежде всего как переход идейно-тематической основы в человеческие характеры, переживания и поступки которых конкретизируют, придают определенность и отчетливость осознанному писателем жизненному материалу" * .
* (Л.И. Тимофеев. Основы теории литературы. М., 1959, стр. 125. )
Поэтому вся работа писателя над образной системой подчинена задаче наиболее яркого и впечатляющего выражения идейного смысла произведения. Небезынтересно в этой связи привести характерное высказывание Ф. М. Достоевского: "Художественность есть способность до того ясно выразить в лицах и образах романа свою мысль, что читатель, прочтя роман, совершенно так же понимает мысль писателя, как сам писатель понимал ее, создавая свое произведение" * .
* (Русские писатели о литературе. Т. 2. Л., 1939, стр. 183. )
Следовательно, изучение формы сложного литературного произведения в первую очередь связано с осмыслением характеров населяющих его персонажей.
Диалектически рассматривая вопрос перехода содержания в форму, осуществляемого, в первую очередь, в образах, надо иметь в виду всю его сложность. В данном случае и образ может оказать свое воздействие на содержание. Из истории развития литературы известно немало случаев, когда писатели, работая над углублением характеров, изменяли первоначальный замысел, т. е. в процессе работы над образом изменяли содержание.
Ярким примером тому может служить работа Л. Н. Толстого над романом-эпопеей "Война и мир". Вначале писатель задумал повесть о декабристе, отражающую события его жизни, относящиеся к 1856 г., когда герой произведения Лобазов возвращался из ссылки. Затем для объяснения его судьбы автор счел необходимым обратиться к событиям 1825 г., чтобы показать политическую деятельность героя, определившую его дальнейший путь декабриста. А потом мысли увлекли Толстого дальше - в глубь времен: он обратился к периоду формирования взглядов Лобазова, т. е. к 1812 г., а потом и к 1805 г. Писатель решил, что нельзя писать о торжестве России, "не описав наших неудач и нашего срама". Так расширялись не только хронологические рамки, но и содержание, которое в процессе работы автора изменилось и обогатилось.
В основе структуры художественного произведения лежат определенные принципы его построения, которые мы называем архитектоникой. Это самые общие структурные принципы, которые в каждом случае реализуются по-своему. Так, нетрудно обнаружить известную близость архитектоники таких различных по содержанию произведений, как "Путешествие из Петербурга в Москву" Радищева, "Кому на Руси жить хорошо" Некрасова и "Страна Муравия" Твардовского. Архитектоника связана с композицией и сюжетом. Общие принципы построения приобретают конкретность в композиции, смысловым наполнением которой является сюжет, т. е. система событий в произведении, где во взаимодействии проявляются характеры (в произведениях бессюжетных содержание непосредственней связано с композицией). В развитии сюжета может нарушаться причинно-временная последовательность в изложении событий, которую называют фабулой (от лат. fabu1а - "сказка", "пересказ").
В композиции проявляется умение автора выявить главное, существенное, отделить его от менее важного, определить связи, чтобы полнее и ярче выразить замысел. Гармоническая цельность в реалистическом произведении достигается тогда, когда каждый персонаж глубоко раскрывается в своей социальной и индивидуальной сущности, когда жизненно-правдивый характер носят его взаимоотношения с другими персонажами и. наконец, когда эти отношения причинно обусловлены и психологически мотивированы.
Вспомним, какую экспрессию придает стиху ритмическая организация строк "Железной дороги" Некрасова:
Быстро лечу я по рельсам чугунным, Думаю думу свою...
В этих строках, в их ритмических модуляциях, в аллитерации и ассонансе ярко передано впечатление от мчащегося поезда, с ударами на стыках, с замедлениями и ускорениями. И мы не только зримо, но и как бы на слух воспринимаем эту картину и, представляя ее, словно становимся непосредственными свидетелями беседы, происходящей в вагоне движущегося поезда.
Если нет органической связи между содержанием и ритмико-интонационными средствами, нелепыми кажутся всякие авторские ухищрения, приобретающие чисто формалистический характер.
Понятие формы
Вокруг понятия формы в эстетике велись и ведутся жаркие споры. Идеалисты понимают под формой в искусстве либо средства выражения идеалистически трактуемого содержания, либо самодовлеющую конструкцию, составляющую, по их мнению, собственную сущность. От такого понимания берет свое начало формализм, получивший распространение в современном буржуазном искусстве.
Буржуазные эстетики, отрывая форму от содержания, пытаются рассматривать ее имманентно, придавая ей особый смысл. Клайв Бэлл, подчеркивая, что основное в искусстве - сзначимая форма", в то же время осмысливает саму форму как "линии и краски, скомбинированные особым образом". Эти формы и соотношения форм, по Бэллу, "возбуждают у нас эстетические эмоции" * . При этом утверждается, будто в искусстве нет места жизненным эмоциям и что форма не отражает никаких жизненных отношений, поскольку прекрасна сама по себе. В музыке, например, он видит только "чистую музыкальную форму", звуки, "скомбинированные по законам таинственной необходимости".
* (См.: "Современная книга по эстетике". Л., 1967, стр. 349. )
В поэзии формализм выступает в стремлении придать звукам какое-то особое, не зависимое от содержания текста значение. Такова "теория" "самоценного слова" у символистов и футуристов.
Философской основой формализма являются идеализм и агностицизм. Различные течения буржуазной философии и эстетитики направлены против передовой мысли, гуманизма, хотя их сторонники пытаются прикрыться рассуждениями о "чистом искусстве". Реакционное лицо формализма со всей неприглядностью определилось в пронизанной шовинизмом и человеконенавистничеством программе итальянского футуризма еще в начале нынешнего века. Оно выступает и в различных нынешних проявлениях формализма, которые не всегда в открытой форме прокламируют свои общественные идеи, но неизменно обедняют духовный мир человека. Кроме того, формалисты на словах проповедуют культ формы, но по сути разрушают ее. В живописи это приводит к тому, что художник "освобождается" от самого умения рисовать. Это особенно отчетливо видно на примере такого крайнего проявления формализма, как абстракционизм. Абстракционисты отрицают рисунок, композицию: их полотна - беспорядочное нагромождение пятен или геометрических фигур и линий.
В противовес идеалистическим теориям марксистско-ленинская эстетика в своем учении о форме исходит из ее содержательности. Формой проявления содержания служит образ, который, в свою очередь, имеет и содержание, и форму. Так, идейное содержание раскрывается через образы, создаваемые с помощью средств художественного выражения.
Все это говорит о диалектическом взаимодействии формы и содержания и невозможности их расторжения. Изучая творчество писателя, можно подвергать анализу отдельные его стороны, например, язык произведения с точки зрения его приверженности к определенным языковым формам, средствам художественного выражения. Закономерность ритмических модуляций как структурных форм подлежит и особому изучению. Но и при таких аспектах, очевидно, не будет полной изоляции от содержания, с которым связаны и отдельные образы, и общая структура произведения, и выразительные средства.
Содержательный анализ любой фразы немыслим вне контекста; наряду с ее непосредственным смыслом нужно учитывать и ее связь с другими словосочетаниями, и экспрессию, с которой она произносится. Здесь, особенно в речи персонажей, важно не только ч т о, но и к а к произносится и по какому случаю. Те же слова могут получить различную эмоциональную окраску, и подчас смысл их раскрывается даже не в непосредственном контексте. Нужно учитывать еще возможность косвенного выражения мыслей и переживаний героев.
В пьесе А. П. Чехова "Три сестры" во втором действии Ирина повторяет вычитанную Чебутыкиным в газете фразу о том, что Бальзак венчался в Бердичеве... Она произносит эту фразу, как говорится в ремарке, задумчиво, раскладывая пасьянс. Фраза не имеет прямого отношения к разговору, который ведется, но вместе с тем глубоко передает настроение героини, ее раздумья о случайных стечениях событий, необычайных их переплетениях. Так же "вырывается" из повествования фраза, заключающая "Записки сумасшедшего" Гоголя: "А знаете ли, что у алжирского бея под самым носом шишка?". Смысл ее в "Записках" может быть постигнут лишь при вдумчивом прочтении всего произведения.
Приведенные примеры показывают, какими различными средствами раскрывается истинный смысл фраз, произносимых литературными персонажами. Но чаще всего приходится иметь дело с таким характерным явлением, как использование писателем переносных значений слов, которые обладают большими возможностями для передачи образного мышления. Это прежде всего метафора, особенно характерная для поэзии, где она выступает как бы в концентрированном виде.
При анализе выразительных средств языка важно не просто выявить и описать их, но и показать, как с их помощью выражается содержание, проследив при этом особенности поэтического языка данного автора. При таком подходе нетрудно, например, обнаружить, что весь характер языковых средств в стихотворении В. В. Маяковского "Блек энд уайт" связан с выражением социальных контрастов, определяющих содержание произведения (отсюда и широкое использование антитезы, контрастных эпитетов).
Нельзя рассматривать изолированно и ритмико-интонационные средства. Живая практика стихотворчества показывает, что реальный ритм произведения в большей мере связан не с той метрической схемой, которая лежит в его основе, а с ее конкретным словесным (смысловым) наполнением, поскольку важнейшую роль играют и логические ударения, и паузы, определяемые не только тактом, но и словоразделом, пунктуацией, и, конечно, содержанием, с которым непосредственно связана экспрессия стиха.
Единство содержания и формы
Полноценными в общественном и эстетическом смысле являются лишь те художественные произведения, в которых совершенная форма органически соответствует конкретному глубокому содержанию, отражающему жизненную правду.
В истинно художественном произведении содержание и форма как бы слиты воедино, и глубокое содержание находит выражение в совершенной и притом органически присущей ему форме. Эта гармония обусловлена тем законом необходимости, о котором писал В. Г. Белинский: "Всякое произведение искусства только потому художественно, что создано по закону необходимости, что в нем нет ничего произвольного, что в нем ни одно слово, ни один звук, ни одна черта не может замениться другим словом, другим звуком, другою чертою...".
Так же, как идейное содержание может быть выражено достойно лишь при условии адекватной ему формы, не может быть и речи о мастерстве при неглубоком или ложном содержании. В. Г. Белинский развенчивал произведения, которые при неглубоком содержании пестрили случайной, не обусловленной смыслом, "разукрашенной" формой, называл их мнимо художественными произведениями, уподобляя "красавицам" "по милости белил, румян, сурьмы и накладных форм" * .
* (В.Г. Белинский. Соч. в 3-х т. Т. 3. М., 1948, стр. 351-352. )
Передовые деятели искусства, ратуя за создание полноценных, с точки зрения идейного содержания, произведений, в то же время уделяли большое внимание форме. Так, Н. А. Некрасов в "Подражании Шиллеру" писал:
Форме дай щедрую дань Временем: важен в поэме Стиль, отвечающий теме.
Всякое новаторство в творчестве будет успешным только тогда, когда поиски в области содержания будут сочетаться со стремлением к обновлению формы, и наоборот. Новаторский стих В. В. Маяковского является убедительным примером того, как можно органически слить форму и содержание.
В связи с рассматриваемой проблемой возникает вопрос о национальной форме литературы и искусства. Подлинное искусство сильно своей национальной формой. Именно благодаря этому искусство каждого народа вносит свой вклад в сокровищницу мировой культуры.
Понятие национальной формы существует и в литературе, и в живописи, и в музыке, и в хореографии, и в других видах искусств. В ней отражаются особенности национального склада людей, черты их духовной жизни, что сказывается на характерных гаммах цветов, сочетаниях музыкальных звуков и мелодий, пространственных и объемных формах, пластических движениях. И так же, как существует многообразие национальных форм для выражения социалистического содержания, у каждого народа имеется некоторая общность национальных форм в различных видах творчества.
Взаимодействие социалистического содержания и национальной формы в советском искусстве является многосторонним в плодотворным для всех народов. В условиях нашей действительности, в процессе успешного развития и скрещивания различных национальных культур и создания на этой почве единой культуры коммунистического общества, отживают старые национальные формы, укрепляются новые, основанные на развитии наиболее прогрессивных традиций, выдержавших испытание временем.
Имеются все основания для того, чтобы говорить о трехчленном единстве, или, точнее, о таком единстве содержания и формы в настоящем искусстве, благодаря которому возникает художественная правда. И онато и есть тот третий член, тот специфический предмет изучаемой проблемы, который до сих пор обозначался нами как синтетическое качество искусства. Понятие художественной правды употребляется и в материалистической, и в идеалистической эстетике, но смысл, вкладываемый в него, при этом весьма различен. Данный термин используется часто для противопоставления искусств;; жнзнн. Под художественной правдой понимается как раз то, что не совпадает с правдой жизни.
Такой взгляд на вещи берет начало из глубины веков от Платона и его последователен. Как известно, великий ученик Сократа считал, что по самой своей сущности искусство не может быть чемлибо иным, кроме как иллюзией - тенью теней, ибо весь реальный мир, согласно этой философской системе,- бледное отражение потусторонних идей. Последователи Платона выдвинули получившую широкое распространенно мысль: искусство это то, что прибавляет художник к природе. Такая посылка и приводит к утверждению: художественность - это все то, что сверх реального, что делает искусство красивее жизни или непохожим на нее. Задача искусства определяется при этом совершенно недвусмысленно - создаиио «сладостной легенды». Гносеологический постулат об отражении жизни искусством предлагается заменить идеей творческого преображения действительности, требованием активно-субъективного отношения художника к окружающему.
Если в повседневной своей практике или научных или экономических построениях, связанных например с таким процессом, как человек вынужден считаться с объективными закономерностями, подходить с присущей к данному предмету мерой, оставаться в границах необходимости и логики отношения причин и следствий, то, по мысли сторонников этого тезиса, художнику открывается величайшая свобода - творить по собственному усмотрению. Подобной системе взглядов, казалось бы, логично противопоставить утверждение об идентичности художественной правды и правды жизни.
Но на деле все обстоит гораздо сложнее. Попытки такого отождествления и в художественной практике, и в теории оканчивались торжеством фактографнзма, натурализма. Художник привносит н не может не привносить творческое начало в изображение жизни, в передачу фактов и событий, и тем самым правда искусства отличается от правды жизни, не равна ей, не копирует и не дублирует изображаемый объект. Но художественная правда немыслима вопреки реальному.
 Греческий огонь: рецепт, изобретение и история легендарного состава Химик дюпре
Греческий огонь: рецепт, изобретение и история легендарного состава Химик дюпре Толстые оладьи на кефире как у бабушки Пышные оладушки рецепт от бабушек
Толстые оладьи на кефире как у бабушки Пышные оладушки рецепт от бабушек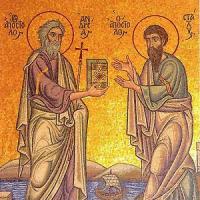 «Апостол Произведение полиграфического искусства ХVI века
«Апостол Произведение полиграфического искусства ХVI века Рецепт: Фруктовые салаты со сливками
Рецепт: Фруктовые салаты со сливками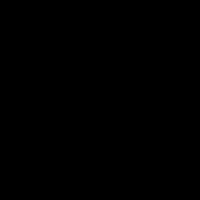 Яркая и непредсказуемая Близнецы-Девушка: сложности характера Как узнать что женщина близнецы влюблена
Яркая и непредсказуемая Близнецы-Девушка: сложности характера Как узнать что женщина близнецы влюблена Добро пожаловать в штаты США!
Добро пожаловать в штаты США! Всероссийский ежегодный конкурс для студентов финансовых специальностей
Всероссийский ежегодный конкурс для студентов финансовых специальностей