Генерал-фельдмаршал князь А.И. Барятинский
Александр Барятинский появился на свет 14 мая 1815 года. Его отец, Иван Иванович Барятинский, являлся одним из самых состоятельных людей России того времени. Камергер, тайный советник и церемониймейстер двора Павла I, соратник Суворова и Ермолова он был весьма образованным человеком, любителем искусств и наук, одаренным музыкантом. После 1812 года Иван Иванович оставил государственную службу и поселился в селе Ивановском в Курской губернии. Здесь у него был выстроен огромный дом-дворец под названием «Марьино». По воспоминаниям очевидцев «комнаты в усадьбе Барятинского исчислялись сотнями, и каждая из них поражала коллекциями, роскошью отделки, собраньями картин знаменитых французов и итальянцев, атмосферой праздничности, художественной утонченности, открытости и одновременно высокой аристократичности». Однако главным богатством своим князь считал супругу Марию Федоровну Келлер, которая подарила ему семерых детей - четверых мальчиков и трех девочек.
Согласно сохранившимся сведениям дети были между собой очень дружны. Александр - старший сын князя и наследник его богатств - получил прекрасное домашнее образование, главным образом по части иностранных языков. Когда мальчику исполнилось десять лет, его отец, Иван Иванович Барятинский, внезапно скончался. Мария Федоровна крайне тяжело перенесла смерть супруга, однако, собрав все свои душевные силы, продолжила жить ради детей. В возрасте четырнадцати лет Александр Барятинский вместе со своим братом Владимиром был отправлен в Москву с целью «усовершенствования в науках». Согласно воспоминаниям в общении с окружающими его людьми молодой князь был вежлив, любезен и прост, однако не терпел фамильярности. После того как юноше минуло шестнадцать лет, княгиня Мария Федоровна приняла решение определить его в один из столичных университетов. Однако осуществить задуманное ей не удалось - Александр внезапно заявил о желании попробовать себя на военной службе. Напрасно родные старались отговорить юношу, напрасно мать показывала ему тщательно скрываемое доселе завещание отца, в котором черным по белому относительно Саши было записано: «Как милость прошу не делать из него ни придворного, ни военного, ни дипломата. У нас и так много куртизанов и декорированных хвастунов. Долг людей, выбранных по своему богатству и происхождению, по-настоящему служить, поддерживать государство… Мечтаю видеть сына агрономом или финансистом». Но все было тщетно, юный князь выказывал недюжинное упорство и самостоятельность, к слову, отличительные качества Александра Ивановича на протяжении всей его жизни. В конце концов, о семейном конфликте Барятинских прослышали во дворце, и сама императрица пришла на помощь молодому человеку. Благодаря поддержке Александры Федоровны юноша в самом скором времени оказался зачислен в Кавалергардский полк, а в августе 1831 поступил в санкт-петербургскую школу кавалерийских юнкеров и гвардейских подпрапорщиков. Любопытно, что спустя несколько месяцев в заведение это попал и молодой юнкер лейб-гвардейского полка Михаил Лермонтов. Впоследствии Барятинский и Лермонтов стали хорошими друзьями.
Поступив в столь престижное учебное заведение, кавалергардский юнкер Барятинский всецело окунулся в шумную и веселую жизнь столичной молодежи той эпохи. Высокий и статный, обаятельно красивый и голубоглазый, с вьющимися белокурыми кудрями князь производил на женщин неотразимое впечатление, и его романические похождения отодвинули интерес к учебным занятиям на задний план. Постепенно небрежность в учении переросла в небрежность на службе. В дисциплинарной полковой книге множились записи о взысканиях с молодого человека, а за самим виновником многочисленных «шалостей» прочно закрепилась репутация неисправимого повесы и кутилы. Никаких денежных сумм, щедро отпускаемых матерью, не хватало Александру Ивановичу на уплаты его бесчисленных карточных долгов. Результатом слабых успехов в науках стало то, что князь не сумел окончить школу по первому разряду и попасть в горячо любимый им Кавалергардский полк.
В 1833 году Барятинский в чине корнета поступил в Лейб-Кирасирский полк наследника цесаревича. Однако симпатии его не изменились, князь по-прежнему принимал самое активное участие в жизни кавалергардов. За участие в одной крупной проказе офицеров полка, направленной против их нового командира и наделавшей в столице много шуму, Барятинский даже был арестован и отсидел на гауптвахте воспитательного дома. В конце концов, рассказы о кутежах и романических похождениях Александра Ивановича докатились до слуха самого императора. Николай Павлович выразил большое недовольство легкомысленным поведением молодого князя, что было немедленно передано Барятинскому. В связи со сложившимися обстоятельствами Александру Ивановичу пришлось крепко задуматься над исправлением своей пошатнувшейся репутации. Колебался он, к слову, не долго, выразив категорическое желание отправиться на Кавказ, дабы принять участие в многолетней войне с горцами. Подобное решение вызвало немалые пересуды среди знакомых и родственников. Князя умоляли не рисковать собой, но все было напрасно - он уже твердо решил осуществить задуманное, говоря: «Пусть Государь знает, что ежели я умею совершать шалости, то и служить умею». Таким образом, в марте 1835 года девятнадцатилетний князь по высочайшему повелению был командирован в войска Кавказского корпуса.
Прибыв в район военных действий, Александр Иванович сразу же окунулся в совершенно иную жизнь. Уже почти два десятилетия на Кавказе шла ожесточенная война. Весь этот край стал единым фронтом, местом, где жизнь русского офицера и солдата являлась случайностью, а гибель - делом будничным. Ни за богатство, ни за фамилию на воюющем Кавказе укрыться было невозможно - все привилегии земные во внимание здесь не принимались. Владимир Соллогуб писал: «Тут прошли поколения героев, тут были битвы баснословные, тут сложилась летопись подвигов, целая русская Илиада... И много тут принесено было безвестных жертв, и много тут полегло людей, чьи заслуги и имена известны одному только Богу». Многие военные старались избежать службы в этом краю, у некоторых находящихся здесь не выдерживали нервы. Однако Барятинский оказался сделан совсем из иного теста. Попав в отряд генерала Алексея Вельяминова, Александр Иванович, точно сдирая с себя коросту столичного пустозвонства и баловства, выражал желание участвовать в самых горячих операциях. Его выносливость и храбрость удивляла даже многое повидавших бойцов. Помимо прочего князь отличался поразительным умением переносить боль. Еще в пору учебы в школе кавалерийских юнкеров была широко распространена о том, как Барятинский, услышав рассуждения Лермонтова о неспособности человека подавлять свои физические страдания, молча снял с горящей керосиновой лампы колпак и, взяв раскаленное стекло в руку, медленными шагами прошел через всю комнату и поставил ее на стол. Очевидцы этого писали: «Рука князя сожжена была почти до кости, и долго потом он страдал сильною лихорадкою и носил руку на привязи».
В одном яростном сражении, произошедшем в сентябре 1835 и закончившемся победой русских войск, Барятинский, ведя в атаку сотню спешенных казаков, был ранен в бок. Рана его оказалась очень серьезной, полковой хирург так и не сумел извлечь застрявшую глубоко в кости ружейную пулю. Князь впоследствии так и жил с ней. В течение двух суток Александр Иванович лежал в беспамятстве, находясь на грани жизни и смерти. К счастью, его богатырский организм поборол недуг, и Барятинский пошел на поправку. Для окончательного же восстановления сил ему было позволено вернуться в Санкт-Петербург.
С Кавказа Барятинский прибыл уже в чине поручика, удостоенный почетного золотого «за храбрость». В Северной столице красавец князь, опаленный огнем кавказских сражений, снова быстро вошел в моду. Петр Долгоруков писал в «Петербургских очерках»: «Александр Иванович во всех отношениях являлся блистательным женихом. Все матушки с взрослыми дочерями на сбыте в один голос пели ему различные акафисты, а в петербургском высшем свете за неопровержимую аксиому было принято: «Барятинский - блестящий молодой человек!». Однако наследник родовых богатств держался стойко, ничто не могло его заставить забыть картины воюющего Кавказа и своих товарищей по оружию. В 1836, окончательно поправившись, Александр Иванович получил назначение состоять при наследнике цесаревиче Александре. Три последующих года, проведенные в путешествиях по Западной Европе, чрезвычайно сблизили молодых людей, положив начало их крепкой дружбе. Посещая различные европейские земли, Барятинский старательно восполнял пробелы своего образования - выслушивал в знаменитых университетах длинные лекции, знакомился с выдающимися учеными, писателями, общественными и политическими деятелями. Вернувшись из-за границы, князь жил в Санкт-Петербурге, занимаясь приведением в порядок своих денежных дел. Основным его увлечением в те годы стали царскосельские скачки, для участия в которых он приобретал дорогих лошадей. Служебное продвижение Барятинского также шло быстро - в 1839 он стал адъютантом цесаревича, а к 1845 дорос до чина полковника. Перед ним открывалась блестящее и спокойное будущее, однако Александр Иванович чувствовал иное призвание и весной 1845 выбил себе новую командировку на Кавказ.
Полковник Барятинский возглавил третий батальон Кабардинского полка и вместе с ним принял участие в печально известной Даргинской операции, организованной русским командованием в конце мая 1845 с целью сломить сопротивление войск Шамиля у селения Дарго. Занятие аулов Анди, Гогатль и Теренгульской позиции, битва на Андийских высотах, сражение на высотах за рекой Годор, штурм аула Дарго, многодневный бой в ходе отступления через Ичкерийский лес - везде привелось отличиться Александру Ивановичу. Во время захвата Андийских высот, когда русские войска приступом брали укрепления горцев, Барятинский, проявив в очередной раз чудеса доблести, был тяжело ранен - пуля навылет пробила голень правой ноги. Несмотря на это, Александр Иванович остался в строю. По окончании похода главнокомандующий русскими войсками граф Воронцов представил князя к Георгию четвертой степени, записав: «Князя Барятинского в полной мере считаю достойным ордена… Он шел впереди храбрейших, подавая всем пример мужества и неустрашимости…».
В связи с полученным ранением ноги Александр Иванович вновь был вынужден расстаться с Кавказом. Согласно воспоминаниям родственников вид возвратившегося домой князя потряс их до глубины души - Барятинский состриг свои известные блондинистые кудри, отпустил тупые бакенбарды, а на его посуровевшем и серьезном лице пролегли глубокие морщины. Передвигался он, опираясь на палку. В светских гостиных князь отныне не появлялся, а люди, их наводнявшие, стали ему совершенно неинтересны. Недолго пробыв в Санкт-Петербурге, он выехал за границу. Однако Барятинскому, очевидно, было на роду написано все время воевать. Узнав о том, что Александр Иванович следует через Варшаву, выдающийся русский полководец, наместник Польши Иван Паскевич предложил ему принять участие в военных действиях по подавлению очередного мятежа. Разумеется, князь дал согласие. Во главе отряда, состоящего из пятисот казаков, Барятинский в феврале 1846 разбил превосходящих численностью повстанцев и «с отличною ревностью, мужеством и деятельностью преследовал их войско, отбросив оное в прусские границы». За этот подвиг Александр Иванович был удостоен ордена Святой Анны второй степени.

В феврале 1847 Барятинский был назначен командиром Кабардинского полка и одновременно произведен в звание флигель-адъютанта. За три года руководства этим знаменитым полком Александр Иванович проявил себя начальником строгим, и даже беспощадным в требованиях дисциплины, однако заботливым о своих подчиненных, вникающим во все хозяйственные мелочи. За счет собственных средств Барятинский приобрел во Франции современные по тому времени двуствольные штуцеры и вооружил ими охотников полка. Это оружие давало его солдатам весомые преимущества перед горцами, не случайно часть кабардинцев-охотников считалась на Кавказе самой лучшей. Вместе с исполнением служебных дел Александр Иванович внимательно изучал страну и знакомился с посвященной Кавказу литературой. Со временем эти кабинетные занятия делались все упорнее и продолжительнее. По указаниям Барятинского в Хасавюрт была перенесена штаб-квартира полка, что имело важное стратегическое значение, а также изменена дислокация войск на Кумыкской плоскости и выбрано новое, более удобное место для строительства моста через реку Терек. Из боевых подвигов князя за это время, прежде всего, необходимо отметить успешную атаку укрепленного лагеря горцев у реки Кара-Койсу и сражение при поселении Зандак, где князь успешно отвлек внимание неприятеля от основных сил русских. В ноябре и декабре 1847 Александр Иванович провел ряд успешных атак на шамилевские аулы, за что был удостоен ордена Святого Владимира третьей степени. А летом 1848, отличившись в бою при Гергебиле, он был произведен в генерал-майоры и назначен в императорскую свиту.
К сожалению, неумеренные годы юности начали сказываться на здоровье Александра Ивановича. Сначала это были легкие, но затем все более усиливающиеся приступы подагры. Испытывая жестокие боли, князь был вынужден ходатайствовать об отпуске, который был ему разрешен осенью 1848. К тому времени российский император абсолютно неожиданно для самого Барятинского принял решение «облагодетельствовать» его, а именно женить на выбранной им невесте из семейства Столыпиных. Когда Александр Иванович добрался до Тулы, там его уже поджидал с новостями родной брат Владимир. Ссылаясь на открывшуюся болезнь, Барятинский остался в городе, а когда данный ему отпуск подошел к концу, известил императора о том, что возвращается в свою часть. Разгневанный Николай Павлович отправил вслед ослушнику гонца с уведомлением о продлении отпуска. Александра Ивановича царский посланец догнал в Ставропольской губернии, однако князь заявил ему, что считает нецелесообразным поворачивать обратно, находясь возле места своей службы. Однако и император не желал отказываться от задуманного, и перепуганная княгиня Мария Федоровна писала сыну письма с просьбами вернуться и выполнить волю царя. В Северной столице Барятинский появился лишь в конце 1849. Спустя двое суток после приезда он, нагрузив сани подарками, отправился поздравлять семью брата Владимира. В его доме Александр Иванович вместе с остальными гостинцами оставил конверт из плотной бумаги. На следующий день весь город обсуждал ошеломляющие подробности его содержимого. Там лежали документы на право владения богатейшим наследством Александра Ивановича, полученного им в качестве старшего сына от отца. Князь добровольно отказался от всего недвижимого и движимого имущества, включая бесценный Марьинский дворец. Себе князь оговорил лишь сто тысяч рублей и ежегодную ренту в семь тысяч. Само собой, дело с женитьбой мгновенно расстроилось. Барятинский, оставшись верным семейному девизу «Бог и честь», не без основания гордился своим поступком, говоря знакомым в минуты откровения: «Я и самому государю не поддался».
Полное служебное бездействие вместе с неизвестностью того, что его ожидает в будущем, тяготили князя. Наконец, весной 1850 военный министр по высочайшему повелению попросил Александра Ивановича выбрать себе один из двух корпусов - Новгородский или Кавказский. Барятинский, само собой, предпочел вернуться на старое место службы, и в конце мая этого же года получил приказ сопровождать наследника цесаревича, отправлявшегося в поездку по Кавказу. Уже в конце 1850 Александр Иванович возглавил Кавказскую резервную гренадерскую бригаду, а весной следующего года стал командиром двадцатой пехотной дивизии и одновременно исправляющим должность начальника левого фланга Кавказской линии. До 1853 Барятинский оставался в Чечне, ставшей главной ареной деятельности Шамиля, «систематически и настойчиво подчиняя ее русскому владычеству». В течение зимы 1850-1851 годов все усилия русских войск были сосредоточены на уничтожении Шалинского окопа, устроенного непокорным имамом, что и было сделано благодаря успешному обходному маневру войск Барятинского. Кроме того князю удалось нанести горцам сокрушительное поражение при речке Басс, захватив там множество лошадей и оружия. Последовавшие за тем летние и зимние экспедиции 1851-1852 годов на территории Большой Чечни дали русской армии возможность впервые после возмущения горцев преодолеть ее вдоль от укреплений у села Воздвиженское до крепости Куринской. Особенно удачным был разгром войск имама неподалеку от Чертугаевской переправы. Не меньшего успеха князь достиг и в южных областях Чечни, а также со стороны Кумыкской плоскости, где из-за крутых берегов Мичика продвижение войск шло крайне медленно и трудно. В зиму 1852-1853 годов русские войска прочно обосновались на Хоби-Шавдонских высотах, проложили через Каякальский хребет удобную дорогу, а через реку Мичик организовали постоянную переправу.
Постепенно начинала вырисовываться особая тактика действий Александра Ивановича, позволявшая разрешать сложнейшие задачи с наименьшими потерями. Ее особенности заключались в постоянном применении скрытых обходных маневров и налаженной системы собирания информации о планах Шамиля с помощью лазутчиков. Еще одной важной деталью было то, что в отличие от большинства столичных сановников Александр Иванович хорошо понимал - одной лишь военной силой замирить Кавказ не получится, и поэтому немало сил он прилагал на административно-хозяйственное преобразование края. На захваченных территориях прокладывались просеки и дороги, открывающие войскам простор для маневров между опорными крепостями, а в поддержку центральной администрации на местах организовывались органы военно-народного управления, учитывающие традиций горских народов. Новым словом стала тесная координация действий милиции и различных войсковых подразделений. Хасавюрт, где размещался Кабардинский полк, быстро разросся, притягивая к себе всех недовольных действиями Шамиля.
В январе 1853 Александр Иванович стал генерал-адъютантом, а летом того же года был утвержден в должности начштаба Кавказского корпуса. Это повышение открывало для полководца широчайшие возможности по претворению в жизнь его стратегических замыслов. Однако внезапно вспыхнувшая Крымская война временно ограничила действия русских войск на Кавказе, роль которых в период с 1853 по 1856 годы сводилась к сохранению всего достигнутого в предшествующий период. И результаты эти были крайне важны, поскольку горцы, подстрекаемые французами, англичанами и турками, проявили необычную воинственность, причиняя русским бойцам немало беспокойств. А в октябре 1853 Барятинский был командирован в Александропольский отряд князя Бебутова, действующий на турецкой границе. В блистательном бою при селении Кюрюк-Дара в июле 1854, когда восемнадцатитысячный русский отряд разгромил наголову сорокотысячную (по иным подсчетам шестидесятитысячную) турецкую армию, князю в очередной раз выпало проявить свой выдающийся стратегический дар. За победу в этом сражении, решившим судьбу всей кампании в Закавказье, ему был пожалован орден Святого Георгия третьей степени.
В конце 1855 Александру Ивановичу было поручено временное руководство войсками, размещенными в городе Николаеве и его окрестностях, а летом 1856 он стал командующим всем отдельным Кавказским корпусом. Немногим позднее князя произвели в генералы от инфантерии и назначили наместником его императорского величества на Кавказе. После вступления в должность он по-суворовски лаконично объявил своим подчиненным: «Воины Кавказа! Глядя на вас, дивясь вам, я вырос и возмужал. От вас, ради вас осчастливлен я назначением и трудиться буду, дабы оправдать подобное счастье, милость и великую честь». К слову, будь жив Николай I, Александр Иванович, несмотря ни на какие заслуги, никогда бы не стал на Кавказе первым лицом. Однако новый царь Александр II просто не представлял на эту роль более подходящую кандидатуру.
Александр Иванович прекрасно понимал, что затяжное и кровавое противостояние на юге страны требует завершения, и, разумеется, завершения победного. Отныне главная задача русских войск заключалась в том, чтобы быстро и с минимальными потерями усмирить Кавказ, а также нейтрализовать посягательства на эти земли англичан, персов и турок. Барятинский отдал преимущество мощной наступательной тактике. Каждая военная операция обсуждалась и разрабатывалась до мельчайших деталей. Князь презирал якобы победные налеты на врага, не дававших русским войскам никаких весомых стратегических результатов, однако приносивших немалые бессмысленные потери. С местными жителями Александр Иванович вел себя как опытный и дальновидный дипломат - стараясь не оскорблять национальные чувства горцев, он регулярно помогал населению продовольствием, медикаментами и даже деньгами. Современник писал: «Шамиля всегда сопровождал палач, Барятинского же - казначей, тут же награждавший отличившихся драгоценными камнями и золотом».
В результате сочетания дипломатических и силовых средств давления на противника к концу лета 1858 года русским войскам удалось подчинить себе всю равнинную Чечню, а Шамиль с остатками оставшихся ему верными войск был отброшен в Дагестан. Вскоре на подконтрольные им земли были предприняты массированные наступления, и в августе 1859 у дагестанского поселения Гуниб был разыгран завершающий акт затянувшейся драмы под названием «Кавказская война». Скала, на которой было расположено село, представляла собой природную крепость, укрепленную к тому же по всем правилам фортификации. Однако четыреста человек, которые остались у имама, конечно же, не могли сдержать значительно превосходящие по численности царские войска, а помощи им к тому времени ждать было неоткуда. Барятинский стянул к последнему оплоту Шамиля войско в шестнадцать тысяч человек при восемнадцати орудиях, окружив гору плотным кольцом. Александр Иванович сам встал во главе военных сил и лично командовал наступлением. 18 августа главнокомандующий отправил Шамилю предложение сдаться, пообещав отпустить его вместе с теми, кого он сам захочет с собой взять. Однако имам не поверил в искренность русского военачальника, заявив ему с вызовом: «У меня еще есть в руке шашка - подойди и возьми ее!». После неудачных переговоров рано утром 25 числа начался штурм аула. В самом разгаре сражения, когда врагов осталось не более нескольких десятков, огонь русских неожиданно прекратился - Александр Иванович вновь предложил противнику почетную сдачу. Шамиль по-прежнему был уверен в коварстве «неверных», однако отказ его сыновей от продолжения сопротивления, а также уговоры ближайших соратников не подвергать гибели детей и женщин сломили старого человека. А то, что случилось потом, не влезало ни в какие представления имама о своем противнике - к огромному изумлению Шамиля ему были явлены почести, соответствующие главе побежденного государства. Барятинский сдержал свое обещание - пред самим государем он ходатайствовал о том, чтобы жизнь Шамиля была материально обеспечена и соответствовала положению, которое имам некогда занимал. Император пошел ему на встречу, Шамиль с семьей поселился в Калуге и еще много лет писал своему бывшему врагу восторженные письма.
Потери русских в результате тщательно подготовленного штурма составили всего двадцать два человека убитыми, а пленение Шамиля стало концом организованного сопротивления на Кавказе. Таким образом, у Барятинского вышло усмирить непокорный край всего за три года. Александр II щедро наградил как сподвижников полководца Милютина и Евдокимова, так и его самого - к ордену Святого Георгия второй степени за победы в Дагестане добавился орден Святого Андрея Первозванного. Кроме того за пленение Шамиля сорокачетырехлетний князь получил высшее воинское звание - генерал-фельдмаршала. Войска встретили ликованием, считая ее не без оснований «наградой всему Кавказу». После этого Барятинский продолжил заниматься хозяйственными и военно-административными преобразованиями края и успел сделать немало. Из бывших Линейного и Черноморского казачьих войск были организованы Терское и Кубанское войска, создана Дагестанская постоянная милиция и Дагестанский конно-иррегулярный полк. На Кубани была заложена группа станиц и укреплений, открылись Константиновская и Сухумская морские станции, основаны новые военные училища, а на картах Российской империи возникла Бакинская губерния. Многие мосты и перевалы, сооруженные под командованием Барятинского на Кавказе, служат и до сих пор.
Активная деятельность по управлению краем расстроила здоровье выдающегося полководца, положив конец его блестящей карьере. Уже последние экспедиции, совершенные в 1859 году, он вынес с огромным трудом. По свидетельствам близких к фельдмаршалу людей, Александру Ивановичу приходилось прикладывать неимоверные усилия своей железной воли, дабы не показывать окружающим, насколько велики его страдания. Участившиеся приступы подагры вынудили князя злоупотреблять прописанными ему лекарствами, что в свою очередь привело к обморокам, страшным болям в желудке и в костях рук и ног. Полная потеря сил побудила фельдмаршала после представления императору отчета об управлении вверенными ему землями за 1857-1859 годы отправиться в апреле 1860 в долгий заграничный отпуск. В отсутствии Барятинского действия русских войск по замирению-заселению Западного Кавказа продолжались в соответствии с оставленными им инструкциями, так что к окончанию 1862 года весь Закубанский край от горцев был очищен и подготовлен к основанию казачьих станиц.
Состояние же здоровья Александра Ивановича все ухудшалось. Вследствие этого князь отправил царю прошению об освобождении его от должности наместника, указывая преемника в лице князя Михаила Николаевича. В декабре 1862 император удовлетворил его просьбу, написав: «Подвиги отважной Кавказской армии под вашим предводительством и обустройство Кавказского края в период вашего управления навсегда останутся в памяти потомков». Выйдя в отставку, Александр Иванович поселился в своем имении, расположенном в Варшавской губернии, и почти десять лет оставался в тени. Известно лишь, что он вел активную переписку с императором, сообщая тому о своем здоровье и выражая взгляды по различным вопросам внешней политики. Стоит отметить, что в год своего увольнения со службы Барятинский, наконец, женился на давно и горячо любимой им женщине - Елизавете Дмитриевне Орбелиани. С этим браком связывается множество любопытных романтических историй, вызвавших в свое время множество толков. Вот, например, что писал об этом известный политический деятель Сергей Витте: «...Среди адъютантов Барятинского был полковник Давыдов, женатый на княжне Орбелиани. Княжна имела довольно обыденную фигуру, была невысокого роста, однако с лицом очень выразительным, кавказского типа... Александр Ивановича начал ухаживать за ней. Никто и не подумал, что это кончиться чем-нибудь серьезным. В действительности же ухаживание окончилось тем, что Барятинский, уехав в один прекрасный день с Кавказа, до известной степени похитил у своего адъютанта жену». Так это было на самом деле или нет, доподлинно неизвестно, однако с Елизаветой Дмитриевной в ладу и согласии Барятинский прожил всю свою оставшуюся жизнь.

В 1868 Александр Иванович, почувствовавший себя значительно лучше, вернулся в Россию и поселился в своей усадьбе «Деревеньки» в Курской губернии. Здесь он принялся активно изучать положение крестьян и их быт. Результатом этого исследования явился доклад, посланный министру внутренних дел Александру Тимашеву, в котором князь негативно отнесся к общинному землевладению, отдав выбор подворной системе, ограждающей, по его мнению, принцип собственности. В 1871 году фельдмаршал был назначен шефом второго стрелкового батальона, а в 1877 - когда началась очередная русско-турецкая война - рассматривалось предложение о назначении кавказского героя во главе русского войска, но это в связи с его здоровьем не было осуществлено. Тем не менее, по окончании войны Александр Иванович, будучи весьма раздосадован итогами Берлинского конгресса, унижавшими Россию, уже сам, прибыв в Санкт-Петербург, предложил государю помощь. Лето 1878 князь провел в Зимнем дворце, занимаясь составлением плана предполагаемых военных действий против Англии и Австрии, однако все вопросы тогда разрешились мирно. Обострение старой болезни потребовало нового путешествия Барятинского за рубеж. В начале февраля 1879 его состояние сильно ухудшилось, и князь уже практически не вставал постели. Живительный женевский воздух не принес ему желанного облегчения, и жизнь полководца быстро угасала. Несмотря на ясное сознание, работать Александр Иванович из-за мучительных приступов боли не мог. По отзывам близких людей, в минуты облегчения князь справлялся о здоровье государя и с тревогой рассуждал, что станет после его кончины с женой. Тем не менее, при общении с ней он, не желая расстраивать, не показывал своих страданий и старался оставаться спокойным. Последний день жизни Барятинского был ужасен. После очередного обморока Александр Иванович внезапно, напрягши все силы, встал на ноги и произнес: «Если умирать, то на ногах!». Вечером 9 марта 1879 князь скончался. Тело выдающегося полководца согласно его завещанию было перевезено из Женевы в Россию и помещено в родовом склепе в селе Ивановском в Курской губернии. На похоронах Александра Барятинского присутствовал наследник цесаревич Александр Александрович, а также прибывшие с Кавказа депутации от кабардинского полка и горцев. Три дня Российская армия носила траур по фельдмаршалу «в честь памяти к заслугам доблестным его отечеству и престолу».
По материалам книги А.Л. Зиссермана «Фельдмаршал князь Александр Иванович Барятинский» и сайта http://www.vokrugsveta.ru.
Ctrl Enter
Заметили ошЫ бку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Из древнейшего рода князей Барятинских, ведущего свою родословную от Рюриковичей, потомок Михаила Черниговского, давших России многих государственных, военных и иных деятелей. Но именно старший сын Ивана Ивановича Барятинского -Александр Иванович (1815- 1879 годы жизни), единственный, среди них стал выдающимся военачальником, дослужившимся до звания фельдмаршала и прославившимся ратными делами. Заслуги его перед Россией общепризнанны.
Правда, в молодости высокий, красивый, статный и остроумный князь слыл и картежником, и повесой, и любителем женщин, которые отвечали ему полной взаимностью. Иногда озорства заводили его слишком далеко. Однажды, где-то в середине 30-х годов, сам Александр Сергеевич Пушкин со своим приятелем Сергеем Александровичем Соболевским выручали "заигравшегося" поручика лейб гвардии Кирасирского полка от больших неприятностей, которые могли навредить его служебной карьере - и уж тогда не знаю, стал бы он фельдмаршалом или нет?! Пушкин и Соболевский обошли его взаимодавцев и уговорили их не губить молодого привлекательного офицера, и им удалось замять назревавшийся скандал.
Александру Ивановичу вообще везло на знакомство с литературными знаменитостями. Так, он был близким товарищем Лермонтова по Школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. Посещал дом Карамзина, где вращался в высшем литературном свете Петербурга. Был принят в самых блестящих литературно-музыкальных салонах столицы, собрал великолепную библиотеку.
И во дворце был своим человеком. В 1836-45 годах состоял при наследнике престола Александре Николаевиче, будущем императором Александром II, близко подружился с ним, что, естественно, также способствовало его быстрому продвижению по служебной лестнице. Словом, удачливым был во всех отношениях.
Но был и отличным офицером, храбрым, смелым, обладающим и волею, и непреклонностью. С 1845 года служил на Кавказе, командовал полком, бригадой, дивизией. Назначается начальником Главного штаба войск на Кавказе. Участвовал в Крымской войне и за проявленную воинскую умелость получил орден Св. Георгия 3-й степени. В 1857 году Александр Иванович - главнокомандущий всем Кавказским корпусом и наместник царя на Кавказе. В течение трех лет, сломив сопротивление войск Шамиля, а его самого взял в плен, за что удостоился ордена Св. Георгия 2-й степени. Дослужился до звания фельдмаршала, стал кавалером почти всех высших наград Российской империи. В 1862 году вышел в отставку и определен членом Государственного Совета.
В Марьино самозабвенно почитали Александра Ивановича. В честь его побед перед дворцом, на берегу пруда, был воздвигнут памятник "Орел". Перед фельдмаршалом трепетали его братья, подчас заслуженные генералы, и сестры. Даже властная Мария Федоровна побаивалась сына. Без предварительного разрешения никто из близких родственников не мог входить в его комнаты. Бывало, что такого разрешения они и не получали.
А с недавним врагом - Шамилем его связывали уважительные, дружеские отношения. Плененный им вождь непокорных горцев, некогда гордый и самовластный, живет в Калуге и шлет фельдмаршалу письма, свидетельствуя свое нижайшее почтение. Как о милости, просит о свидании. Приезжает в Марьино. Принимается очень радушно. В честь его посещения здесь установлен памятный знак.
Александр Иванович, требующий от всех беспрекословного повиновения с возрастом уже с трудом сходился с людьми, а старых соратников становилось все меньше и меньше. Но до конца жизни его связывали уважительные отношения с человеком сугубо штатским, притом моложе его почти на двадцать лет, с человеком, которого он отличал и которому был благорасположен. Это был немецкий художник Теодор Горшельт (1829-1871 годы жизни).
О нем стоит сказать подробнее, ибо только он оставил в своем творчестве Кавказскую войну и подвиги Русской армии, чем вошел в историю русского батального искусства. Он создал большой "Кавказский военный цикл" - из картин, акварелей и рисунков, и в широте, полноте и качестве этой темы никто из русских художников не может с ним сравняться. И главные его кавказские правоведения были собраны в Марьино: здесь как бы образовав единственный в своем роде его музей. Ныне эти картины и рисунки украшают собрания десятков музеев России. Но мало кто знает, даже из специалистов, кто же такой Горшельт и чем он прославил РОССИЮ. Заслуги его перед нашей страной и нашей армией еще не оценены.
Теодор Горшельт, которого в России уважительно именовали Федором Федоровичем - так он вошел и в нашу литературу,- родился в Мюнхене. Здесь же учился в Академии художеств, а затем у известного баталиста А. Адана. Любил путешествовать. Притом выбирал беспокойные, опасные для поездок страны. Побывал в Алжире, создав живописную алжирскую серию. Но мечтал побывать и на Кавказе. Даже написал картину на "кавказский" сюжет, вероятно на основе какого-то иллюстративного материала. Но она была полнейшей фантазией, ничего общего не имеющей с реальностью.
Наконец, в 1858 году, на деньги, полученные от продажи картин "алжирской" серии и с солидными рекомендательными письмами от русского посланника в Мюнхене графа фон Северина и известного в России художника А. И. Коцебу он прибыл в Тифлис и представил их главнокомандующему князю Барятинскому. Генералу понравился молодой, энергичный и жизнерадостный немец, и он определил его волонтером при своем штабе. Горшельт сразу показал себя не только прекрасным рисовальщиком, умеющим делать зарисовки в самых трудных военных обстоятельствах, но и храбрым человеком. Он наравне с русскими солдатами принимал участие в сражениях и весьма в них отличился. Он удостаивается высокими воинскими наградами - Орденами Св. Станислава 111-й степени с мечами. Св. Анны 111-й степени также с мечами и Крестом в честь победоносного завершения Кавказской войны. Большая честь для штатского человека, тем более иностранца. Горшельт очень этим гордился. А "по высочайшей воле" он назначается академиком батальной живописи Петербургской Академии художеств.
В 1862 году он приглашен в свиту императора Александра II во время его поездки по Кавказу, о чем написал большую картину со множеством портретных лиц. Позже, в составе свиты Альбрехта Прусского, побывал в Баку и на Каспии. В 1863 году, всячески обласканный в России, он возвращается в Мюнхен и создает множество рисунков на кавказские темы. Принимает участие как художник во франко-прусской войне, в том числе в сражении под Страсбургом. Скоропостижно умирает 3 апреля 1871 года от дифтерита.
Теодор Горшельт увековечил свое имя только произведениями, посвященными Русской армии и русскому солдату - этим и вошел в историю русского искусства... Горшельт "глубоко понял,- писал известный критик А. Пряхов,- и воспроизвел тип простого русского солдата, тип этих атомов, из которых и в конце концов складывается батальная слава России, особенности и достоинства, которые прямо коренятся в нашем национальном характере".

"Пленный Шамиль перед главнокомандующим князем А. И. Барятинским
25 августа 1859 года" Т. Горшельт 1863 г.
Теодор Горшельт создал много картин, акварелей и рисунков, посвященных Кавказской войне. Наиболее известны - "Штурм укреплений Гуниба", "Пленный Шамиль перед главнокомандующим князем А. И. Барятинским 25 августа 1859 года", "Горец на краю обрыва", "Горец с белой лошадью". "Русская артиллерия на Чечне", "Возвращение казаков с пленными", "Рынок в Тифлисе", "Русский передовой пост", "Переправа через реку", "Гнедая лошадь А. И. Барятинского",- Александр Иванович был страстным "лошадником".
Уже после смерти художника были изданы в Петербурге в 1886-1896 годах 6 выпусков с рисунками "Кавказского похода". Кстати, издание было осуществлено на средства великого князя Георгия Михайловича, покровительствующего творчеству Горшельта, а тираж альбома был куплен Александром III и подарен Петербургской Академии художеств. Горшельт обладал и незаурядным литературным талантом - его "Записки из дневника" публиковались в нескольких номерах журнала "Пчела" за 1877 год. Его портрет в офорте исполнил художник Л. Е. Дмитриев-Кавказский.
Кавказские произведения Горшельта принесли ему европейскую известность. Несколько его кавказских работ экспонировались в 1869 году на Всемирной художественной выставке в Мюнхене и были отмечены Золотой медалью. Но главную свою награду - Большую Золотую медаль он получил в 1867 году на Международной художественной выставке в Париже - за картину "Штурм укреплений Гуниба". Теперь это полотно находится в Курском краеведческом музее. Она сильно пострадала во время Великой Отечественной войны, но в 1951 году была отреставрирована прекрасным художником и реставратором А. Д. Кориным.
Теодор Горшельт был хорошо знаком и с родственниками Александра Ивановича. Даже выполнял их заказы.
Так, по просьбе Владимира Ивановича Барятинского он написал главные свои картины "Штурм укреплений Гуниба" и "Пленный Шамиль перед главнокомандующим князем А. И. Барятинским 25 августа 1859 года". Очевидно бывал он и в Марьино, сделал несколько рисунков, но нынешнее их местонахождение мне неизвестно.
Теодор Горшельт дружил с В. В. Верещагиным. В 1871 году Василий Васильевич приехал в Мюнхен, чтобы найти здесь хорошую мастерскую для работы над своей Туркестанской серией картин. И Горшельт предоставил ему свою большую и просторную мастерскую. Верещагин очень сблизился с Горшельтом. Их объединяло прежде всего общее понимание задач и принципов реалистического искусства. Сближало их, конечно, и то, что они участвовали в войнах, и свое искусство посвятили Русской армии, русскому солдату. Верещагин восхищался его высоким профессионализмом, писал: "Его рисунок, вкус, вся его натура и темперамент... были истинно художественными".
Еще вспоминает, "что в последний мой приход к Горшельту он нервно просил сказать правду: "Не яичница ли это?" - рисунок акварелью баварского солдата под Страсбургом ранним утром. "Правду скажите, пожалуйства, правду!" - приставал он". Со своей стороны я еще прежде приставал к нему с просьбой правды о том, сколько времени он работал с некоторыми своими рисунками. "Только говорите правду,- просил я его,- художники всегда подвирают, уменьшают, чтобы казаться гениальными и работающими легко". Он подумал и сказал: "Этот рисунок я делал 7 дней, то есть 7 дней приходил на то же место". Ну вот спасибо,- ответил я ему,- а то эти обыкновенные ответы "полчаса", два часа и проч. приводят меня в отчаяние. Я так тихо рисую, мне все так трудно дается, что я принужден считать себя каким-то тупицею сравнительно с другими, уверяющими, что труднейшие наброски они делают в 1-2 часа. Я употребляю на все громадный труд, только скрываю его!" "Может быть, за эту откровенность Горшельт и был потом очень откровенен со мной".
К сожалению, эти дружеские отношения оборвались скоропостижной смертью Горшельта, о чем Верещагин очень горевал.
Ефграф КОНЧИН. "Марьино". Август восемнадцатого". Курск. 2001 г.
В богатой войнами русской истории было много полководцев, чьи деяния во славу России достойны благодарной памяти потомков. Но этой памяти хватает далеко не на всех. Даже когда дело касается Великой Отечественной войны, россияне способны назвать в лучшем случае 5-7 имён советских полководцев. Что уж говорить о событиях XIX века, из которых наши соотечественники твёрдо помнят лишь фельдмаршала Кутузова ?
Александр Иванович Барятинский как раз из числа тех военачальников, имена которых широкой публике ничего не говорят. А ведь именно ему удалось решить одну из сложнейших военно-политических задач в русской истории, победоносно завершив растянувшуюся на несколько десятилетий Кавказскую войну.
Древний княжеский род Барятинских происходил от черниговский князей. Предок Александра Барятинского, князь Михаил Черниговский , находясь в ставке у Батыя , отказался поклониться языческим идолам, за что был казнён. За верность православной вере Михаил Черниговский был впоследствии канонизирован.
Александр Барятинский пошёл в великого предка — он готов был отстаивать то, во что верил, невзирая ни на гнев сильных мира сего, ни на угрозу собственной жизни.
Императорский «блат»
Он родился 14 мая 1815 года в семье князя Ивана Ивановича Барятинского, военного и дипломата , одного из самых состоятельных людей в России, владельца множества имений и 35 тысяч крепостных душ. Саша, старший сын Ивана Барятинского, родился в Льговском уезде Курской губернии, где его отец выстроил огромную усадьбу-дворец, слава о которой гремела по всей России.
Князь Иван Барятинский не хотел для сына ни военной, ни придворной карьеры, собираясь сделать из него финансиста или агронома. Для воспитания Саши были наняты английские педагоги, он получал лучшее домашнее образование, которое было возможно на тот момент, а с восьми лет отец начал учить его пахать землю, для чего князь приобрёл сыну маленький плуг.
Жизнь Саши коренным образом изменилась в 10 лет, когда умер отец. Мать, оставшаяся с семью детьми на руках, уже не могла поддерживать прежние намерения покойного мужа в воспитании первенца. В 14 лет Александра отправили в московский пансион, а после переезда в 1831 году он решает наперекор мечтам отца всё-таки стать военным.
Родные не одобряли намерений Александра, но он получил поддержку от императорской четы. Николай I и его жена Александра Фёдоровна , тепло относившиеся к отцу Александра, посодействовали поступлению отпрыска знатного рода в Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров с зачислением юнкером в Кавалергардский полк.
Приятель Лермонтова покушался на честь дочери Николая I
Не исключено, что вскоре император пожалел об оказанной молодому князю Барятинскому милости. Во время обучения Александр был участником всех мыслимых и немыслимых кутежей и хулиганских проделок. Особенно часто князь Барятинский веселился в компании своего закадычного друга, который был на год старше. Друга звали Михаил Лермонтов .
Поэт запечатлел образ друга Саши в поэме «Гошпиталь», выведя его под именем «князь Б-й». О проделках «князя Б-го» говорил весь Петербург. Говорили даже о том, что любвеобильный юноша положил глаз на дочь императора, великую княжну Марию Николаевну .
Терпение императора лопнуло после того, как Александр Барятинский с друзьями устроил переполох на народных гуляниях в столице — в разгар празднеств на Неве в строй нарядных судёнышек врезался странный чёрный челн с чёрным же гробом на борту.
После этого заплыва император лично «выписал» молодому князю пять месяцев ареста, после чего Александра Барятинского отправили перевоспитываться на Кавказ в Кабардинский егерский полк действующей армии.
Адъютант цесаревича, друг Дантеса
Кутила и дамский угодник на Кавказе продемонстрировал удаль совсем иного рода — он отличился в боях, был ранен, зарекомендовал себя с наилучшей стороны и по возвращении в Петербург был награждён золотой саблей с надписью «За храбрость».
Николай I настолько остался доволен переменой, произошедшей в молодом князе, что назначил его состоять при наследнике престола цесаревиче Александре, будущем императоре Александре II .

Место при цесаревиче было, возможно, наиболее перспективным в империи, с точки зрения карьеры, тем более что два Саши быстро сдружились. Но князь Барятинский, однажды побывав на Кавказе, влюбился в этот край и мечтал отправиться туда вновь.
Во время пребывания при персоне цесаревича судьба князя Барятинского вновь пересеклась с историей русской поэзии. Дело в том, что близким другом князя оказался не кто иной, как Жорж Дантес. И когда после роковой дуэли Россия оплакивала великого поэта, Барятинский слал письма утешения и поддержки Дантесу, сидевшему на гауптвахте. Эту дружбу поклонники Пушкина много раз припоминали князю Барятинскому.
В 1845 году 30-летний Александр Барятинский, в качестве адъютанта цесаревича дослужившийся до чина полковника, по высочайшему повелению отправляется на Кавказ, где дела русской армии в ту пору шли неважно.

Я на тебе никогда не женюсь...
Возглавив 3-й батальон Кабардинского егерского полка, он участвует в Даргинском походе.
13 июня 1845 при поражении войск Шамиля близ селений Гогатль и Анди Барятинский проявил особенные отличия. Раненый пулей в голень правой ноги навылет, он остался в строю — и в награду за совершённые подвиги получил орден Святого Георгия 4-й степени.
14 июня при движении к Анди 3-й батальон под командованием князя Барятинского блистательно атаковал 6-тысячный отряд горцев и выбил их после кровопролитного боя из завалов на высотах за рекой Годор.
После взятия Дарго в начале 1846 князя Барятинского отправляют на лечение за границу, но проездом через Варшаву он принял по поручению фельдмаршала князя Паскевича командование над летучим отрядом, назначенным для преследования и истребления краковских мятежников. Поручение это Барятинский успешно выполнил за пять дней.
В начале 1847 года князь Александр Барятинский назначен командиром Кабардинского егерского полка, с которым участвует в боевых действиях.
В Петербург князь наведывается крайне редко, ибо там над ним повисла угроза совсем иного рода. Александр Барятинский категорически не хотел связывать себя узами брака, но монаршья чета, некогда устроившая его военную карьеру, теперь намеревалась женить его.
Одному из самых завидных женихов России подобрали соответствующую невесту — Марию Столыпину .
Барятинский, как мог, уклонялся от брака, ссылаясь то на бои, то на неотложные дела. Однако в 1850 году император жёстко потребовал от князя покориться его воле. Пошли слухи о возможной опале, и мать Александра стала умолять сына подчиниться.
Казалось бы, князю Барятинскому ничего не оставалось, как жениться. Но Александр нашёл выход — приехав в гости к брату Владимиру, который к тому времени уже обзавёлся семьёй, он вручил ему подарок в виде запечатанного конверта. В конверте была дарственная на все земли и поместья, доставшиеся ему от отца. И завидный жених в одночасье стал простым служакой, без богатств и крепостных душ.

Специалист по Кавказу
В итоге брак расстроился, а император выразил высочайшее неудовольствие. Тем не менее на военной карьере Барятинского это не отразилось никак — в 1853 году он дослужился до звания генерал-адъютанта и начальника главного штаба русских войск на Кавказе.
Взошедший на русский престол новый император Александр II получил в наследство от отца массу государственных проблем, среди которых одной из самых болезненных была растянувшаяся на десятилетия Кавказская война. Поставить в ней точку новый император поручил своему другу и бывшему адъютанту. В июле 1856 года князь Барятинский был назначен главнокомандующим русской армией на Кавказе, а в августе того же года получил чин генерала от инфантерии и пост наместника на Кавказе.
Барятинский, в отличие от многих других русских военачальников на Кавказе, считал, что необходимо решать вопрос не только силой оружия, но и, так сказать, экономическими рычагами.
Новый наместник финансово поощрял стремление горцев к мирной жизни, охотно брал на русскую службу самых воинственных, но готовых служить русскому царю.
Барятинский полагал, что горцы вполне способны жить в Российской империи, опираясь на внутреннее самоуправление. При этом князь был непримирим к некоторым обычаям, которые полагал необходимым искоренить — в частности, кровную месть.
Меньше стрельбы, больше денег
Уважение к менее кровавым горским обычаям, глубокое знание менталитета горцев позволили Барятинскому завоевать доверие и уважение даже среди противников. Популярность князя стала беспокоить даже самого Шамиля, поскольку вместе с этим процессом происходило падение его собственной популярности.
Барятинский отказался от карательных походов, неизбежно приводивших к большим потерям, успешно отражая набеги горцев с опорой на многочисленные крепости. Он следил за тем, чтобы у его солдат было лучшее обмундирование и вооружение, что опять-таки вело к сокращению жертв. Осуществляя военные операции, он стремился добиться максимально возможного перевеса в живой силе, дабы сделать сопротивление противника бессмысленным.
Тактика Барятинского дорого стоила — кавказские расходы съедали треть военного бюджета страны. Против него ополчились финансисты и дипломаты — первые требовали сокращения расходов, вторые — снижения военной активности переговоров с Шамилем, дабы избежать нового ухудшения отношений с Францией и Англией, поскольку положение России на международной арене после поражения в Крымской войне было чрезвычайно шатким.
Князь Барятинский стоял на своём — «кавказский вопрос» надо закрывать сейчас, и иного способа сделать это нет. Сэкономив сегодня, полагал кавказский наместник, мы потеряем завтра ещё больше денег и солдатских жизней.
Александр II остался на стороне князя Барятинского, предоставив ему карт-бланш на действия.

Князь Барятинский Александр Иванович. Фото: Commons.wikimedia.org
Тактика «удушения»
С 1856 года три больших русских отряда — Чеченский, Дагестанский и Лезгинский — стали давить на горцев с трёх направлений, лишая верную Шамилю армию манёвра и неуклонно уменьшая контролируемую горцами территорию.
Русские солдаты вырубали леса и строили новые укрепления. Эта неторопливая и методичная тактика заставляла сторонников Шамиля забираться всё выше в горы.
В 1858 году русские закрепились в Аргунском ущелье, создав там новые мощные укрепления — Аргунское и Евдокимовское.
Шамиль чувствовал, как князь Барятинский сжимает кольцо окружения, «удушая» противника. Все его попытки изменить ситуацию не привели к успеху.
Шамиль отступил в аул Ведено, который был осаждён русской армией в конце декабря 1858 года. После трёхмесячной осады 1 апреля 1859 года русская армия пошла на штурм Ведено. После 18-часового артобстрела русские войска заставили горцев покинуть аул.
При занятии Ведено было обнаружено около полусотни трупов бойцов Шамиля, русская армия потеряла убитыми девять солдат. Шамиль лишился своей резиденции, которую контролировал 14 лет.
К середине июня 1859 года на территории Чечни были подавлены последние очаги сопротивления. Шамиль с оставшимися верными ему воинами отступил в дагестанский аул Гуниб.

Звёздный час в Гунибе
В августе 1859 года 16-тысячная русская группировка блокировала аул, в котором оставалось около 400 сторонников Шамиля.
Князь Барятинский вёл с Шамилем переговоры о капитуляции, однако имам лишь тянул время, рассчитывая продержаться до холодов, когда русские вынуждены будут отступить.
На рассвете 25 августа штурмовая группа Апшеронского полка захватила плацдарм на южной окраине аула. Спустя несколько часов на его восточной окраине закрепились части Ширванского полка. В боях на окраинах были убиты большинство сторонников Шамиля, и к 9 часам утра под контролем верных ему воинов оставались лишь несколько построек в Гунибе.
Около полудня князь Барятинский вновь предложил Шамилю сдаться. На сей раз тот был не столь категоричен. Около четырёх часов пополудни наступил исторический момент — Шамиль вышел из своего укрытия к русским войскам.
Князь Барятинский ожидал его, сидя на камне в окружении горцев, присягнувших России. Командующий упрекнул Шамиля в том, что тот не принял предложений о сдаче ещё до штурма. Имам ответил, что во имя своей цели и своих приверженцев должен был сдаться тогда только, когда не останется никакой надежды на успех. Барятинский подтвердил гарантии безопасности самому Шамилю и членам его семьи. Также он сообщил, что Шамилю придётся отправиться в Петербург для ожидания дальнейшего решения императора о его судьбе. Вслед за этим Шамиль был сопровождён в военный лагерь на Кегерских высотах, откуда должен был отправиться вглубь России.
Пленение Шамиля стало ключевым моментом в истории Кавказской войны и вершиной карьеры Александра Ивановича Барятинского.

Благодарный пленник
Война на Кавказе продлится ещё пять лет, однако продолжавшие сопротивление горцы, лишённые главной объединяющей фигуры, оказались не в состоянии противостоять отлично вооружённой, хорошо подготовленной и накопившей бесценный опыт русской армии.
Александр Барятинский был произведён в фельдмаршалы, награждён орденами Святого Георгия II степени и Святого Андрея Первозванного с мечами. Но эта победа досталась князю дорогой ценой. 45-летнего военачальника мучили старые раны, он страдал целым букетом болезней, и в 1862 году по состоянию здоровья Александр Иванович Барятинский вынужден был уйти в отставку.
Победитель Шамиля и покоритель Кавказа очень скоро оказался в тени. Забавно, но тёплые дружеские письма до последних своих дней писал ему... Шамиль, вполне освоившийся в роли почётного пленника русского царя и теперь выражавший искреннюю симпатию к одолевшему его генералу.
Барятинский продолжал следить за международной обстановкой, за процессами, происходившими в русской армии, в письмах вносил немало интересных предложений, которые, однако, оставались невостребованными.
Последние дни своей жизни до срока состарившийся военачальник провёл за рубежом. Александр Иванович Барятинский умер в Женеве 9 марта 1879 года в возрасте 63 лет.
По завещанию, его тело было перевезено в Россию и погребено в его родовом имении, в селе Ивановском Курской губернии.
Генерал-фельдмаршал, член государственного совета, род. 2 мая 1815 г., от второго брака князя Ивана Ивановича Барятинского с графинею Мариею Федоровною Келлер, ум. в 1879 г. Вскоре после рождения ребенка неизвестный человек оставил на лестнице дома рисунок-гороскоп, как полагают, произведение одного из членов существовавших тогда в России масонских лож. Предсказания гороскопа не вполне сбылись, но все-таки замечательно, что оправдалось главное пророчество о победах на Востоке, о призрении пленника; а совет быть великодушным к побежденным сделался девизом будущего фельдмаршала. На князе Александре, как на старшем представителе рода, было сосредоточено все внимание отца, ревностного англомана, и для воспитания его была составлена особая инструкция, которая однако впоследствии не могла быть выполнена со всею точностью. Согласно ей, князь Александр Иванович до пятилетнего возраста оставался под женским присмотром, а затем должен был перейти на попечение гувернеров. Этот первоначальный период жизни посвящался развитию физических сил и ловкости: холодные купанья, гимнастические упражнения, езда на неоседланных лошадях - вот средства к достижению этой цели. С семилетнего возраста отрок должен был уже приступить к изучению языков - русского, славянского, латинского и греческого, причем главнейше следовало обращать внимание на родное слово. Одновременно с этим начинялось обучение рисованию и арифметике. С 12 лет надлежало приступить к изучению механики и прикладной математики, а эти науки должны были приохотить юношу к занятиям земледелием, что и составляло конечную цель и заветное желание составителя инструкции. Князю Александру предполагалось отвести участок земли для агрономических опытов и предоставить земледельческие орудия. Он должен был основательно изучить многопольное хозяйство и устройство машин, равным образом и искусство межевания, а также научиться свободно обращаться с столярными инструментами. Такое практическое воспитание имело назначением выработать в князе самостоятельность, деловитость и сознательное отношение к окружающей жизни. В программу воспитания входило также развитие памяти изучением поэтических произведений и выработка красноречия произнесением вслух сочиненных самим учеником речей. Путешествиям по чужим краям отводилось в инструкции 6 лет, в течение которых юноша должен был знакомиться с историей и статистикой посещаемых стран. В видах наискорейшего и основательного изучения этих отраслей знания, князя Александра должны были, во время его путешествий, сопровождать врач, химик, ботаник, механик (из голландцев, англичан или швейцарцев), немец, знакомый с латинским и греческим языками, главный педагог, на обязанности которого лежало руководство всем воспитанием вообще, и русский наставник, хорошо знающий Россию, ее историю и законы. Четыре года предназначалось на путешествие по Европейской, и два года по Азиатской России. По окончании этих путешествий князь Александр должен был поступить на службу в министерство внутренних дел или финансов, но никоим образом не в военную службу, и не в придворную или дипломатическую. На старости лет, по выходе в отставку, должно поселиться в деревне, чтобы "позаботиться о просвещении и благополучии своих крестьян и приучить их к занятию искусствами и ремеслами, которые увеличат его доходы и дадут вместе с тем занятие толпе праздной челяди". В этих наставлениях, кроме некоторого влияния педагогических идей Руссо, ярко отразился английский идеал богатого, родовитого образованного землевладельца, landlord"а, осевшего в своем родовом поместье, заботящегося о культуре хозяйства и просвещении темного народа, который находится от него в зависимости. Те же английские взгляды князя Ивана Ивановича сказались и в его духовном завещании, по которому для князя Александра определялось образование майората в 8000 душ, остальное же имущество распределялось княгине Марии Федоровне, трем сыновьям и трем дочерям, рожденным от второго брака; о дочери от первого брака в завещании ничего не упоминалось. Образованием обширного майората в пользу князя Александра имелось в виду поддержание рода, почему на представителе этого рода и сосредоточивались весь блеск и роскошь княжеского дома Барятинских. Надежды отца относительно будущей деятельности первенца далеко не осуществились, и князь Александр Иванович воплотил идеи своего отца только в своих отношениях к остальным членам семьи, являясь их действительным главою, покровителем и представителем княжеского дома. Попечения о материальном благосостоянии членов семьи составляли особенный предмет внимания кн. Александра Ивановича, и братья находили в его лице всегда великодушного и щедрого покровителя. Рано и искусственно развитая фамильная гордость легла отпечатком на отношения молодого князя и к окружавшим его лицам. Он был со всеми вежлив, прост и любезен, но не терпел фамильярности и развязности в обращении с собою и, даря своего собеседника вниманием, тем не менее никогда не переходил в своем сближении с ним известной черты. И это делалось как-то само собой без обидного высокомерия или унизительного презрения. Княгиня Мария Федоровна дала сыну прекрасное домашнее образование, особенно по части знания языков, и, когда юноше минуло 16 лет, собиралась определить его в московский университет, но это не удалось, так как молодой князь, под влиянием гвардейца Свистунова, заявил решительное желание посвятить себя военной службе. Мать и родные употребляли все силы, чтобы отговорить его, но тщетно. Князь Александр выказал здесь те упорство и самостоятельность, которые составляли его отличительные качества и в последующей жизни. Семейный спор дошел до дворца, сама императрица поддержала молодого человека, предложив его зачислить в кавалергардский полк, шефом которого она состояла, а в августе, 1831 г. кн. Барятинский поступил в школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров.
В этом учебном заведении кн. Барятинский, кавалергардский юнкер, всецело окунулся в веселую, шумную жизнь столичной молодежи того времени. Высокий, статный обаятельно красивый с прелестными голубыми глазами и вьющимися белокурыми кудрями, он производил неотразимое впечатление на женщин, и его романические приключения отодвинули на задний план интерес к учебным занятиям. Следствием слабых успехов в науках было то, что кн. Барятинский не мог окончить курса школы по первому разряду и выйти в любимый кавалергардский полк, а вынужден был в 1833 г. поступить корнетом в гатчинский кирасирский полк (тогда армейский). Но не здесь лежали его интересы и симпатии; его настоящей семьей был кавалергардский полк, в жизни которого он и принимал самое живое участие. Так, между прочим, он участвовал в крупной шалости кавалергардских офицеров, направленной против нового командира полка, наделавшей много шуму в городе; последствием ее был арест князя Барятинского на гауптвахте воспитательного дома. Его шалости, кутежи, веселые похождения и романические приключения получили в Петербурге широкую известность. Своим легкомысленным поведением он навлек наконец на себя неудовольствие императора Николая Павловича, и ему пришлось серьезно задуматься над поправлением своей пошатнувшейся репутации. Князь Александр Иванович не долго колебался в выборе средств и заявил категорическое желание ехать на Кавказ, чтобы принять участие в военных действиях против горцев. Такое решение, обнаружившее самостоятельность характера и незаурядное понимание службы, вызвало большие толки в семье и среди знакомых. Князя молили не рисковать собой, но тщетно; он что решил, то и должно было осуществиться; "Скажите Государю, просил кн. Барятинский передать императору Николаю Павловичу, что если я умею делать шалости, то умею и служить". Вследствие его настояний в марте 1835 г., т. е. когда ему еще не минуло 20 лет, он был по Высочайшему повелению командирован в войска Кавказского корпуса на все время предстоявших в том году военных действий. В апреле он простился с Петербургом и поехал к месту командировки, где и поступил в отряд генерала Вельяминова, под ближайшее начальство кн. Орбелиани, командира конного полка Черноморских казаков.
Действия наши против западных горцев в период 30-х годов не отличались значительными успехами и имели главною целью утверждение в черте треугольника между крепостью Анапою, морем и устьем Кубани. В одной из экспедиций осенью 1835 г. против племени натухайцев, живших в верховьях реки Абинь, участвовал и кн. Барятинский. Командуя 21 сентября сотней спешенных казаков, в пылу рукопашного боя, окончившегося нашей победой над горцами, князь был тяжело ранен ружейной пулей в бок и был вынесен на плечах Н. П. Колюбакиным, участвовавшим в сражении в качестве разжалованного рядового. Рана кн. Барятинского была очень серьезная (пуля засела глубоко и до конца его жизни не была извлечена), и он в течение 2 суток находился между жизнью и смертью, все время в беспамятстве. В один из моментов сознания больной продиктовал командиру черноморских казаков, Безобразову, свое духовное завещание, в котором распределил все свое имущество между родными и друзьями и просил ходатайствовать о возвращении Колюбакину офицерского звания. Последняя просьба была исполнена, и отношения между кн. Барятинским и Колюбакиным сохранились навсегда самые сердечные. В этом случае ярко сказалось благороднее отношение князя к несчастным и рыцарский долг платить щедро услугой за услугу, Богатырский организм больного поборол недуг, и ему разрешено было для поправления здоровья уехать сначала в Петербург, а потом, за границу. Колюбакин, по поручению генерала Вельяминова, описал в подробностях геройское поведение молодого кн. Барятинского его матери, которая, пораженная горем, показала письмо императрице Александре Феодоровне, а от нее подвиг кн. Барятинского стал известен самому Государю и всему петербургскому обществу. Наградой за экспедицию было производство князя в поручики и пожалование золотой сабли. По прибытии в Петербург, у кн. Барятинского с визитами, соболезнованиями и поздравлениями перебывал весь аристократический мир, но высшею наградою было посещение его Наследником Цесаревичем, который при входе приветствовал его словами: "Государь Император повелевает вам состоять при Наследнике". Со слезами на глазах припал кн. Барятинский к груди Цесаревича, и это сердечное свидание, по его собственному сознанию, было торжественным моментом очищения от прежней греховной жизни. Все прежнее было забыто, и перед молодым героем открывалась новая жизнь.
Отдохнув в Петербурге, кн. Александр Иванович получил продолжительный отпуск за границу. Путешествуя по разным европейским землям, он старался пополнить пробелы своего образования: слушал лекции в университетах, знакомился с писателями, учеными, выдающимися политическими и общественными деятелями, преимущественно из высшего общества Франции и Англии. В 1838-39 гг. он сопровождал Цесаревича в его путешествии по Европе, и в это время кн. Барятинский сблизился в особенности с рано умершим граф. Иосифом Виельгорским, вместе с которым он задался целью собрать библиотеку иностранных сочинений о России и музей предметов, относящихся к России. Впоследствии эта обширная библиотека, со включением в нее библиотеки ориенталиста Гульянова, приобретенной кн. Барятинским в 1840 г., поступила в распоряжение московского Румянцевского музея.
По возвращении из-за границы, кн. Барятинский проживал в Петербурге, состоя на службе в лейб-гвардии гусарском полку, страстно увлекаясь царскосельскими скачками, для которых он содержал дорогих лошадей, и занимаясь приведением в порядок своих денежных дел и устройством майората. Служебное движение шло очень быстро, и уже к 1845 г. мы видим кн. Барятинского в чине полковника. Однако князя Александра Ивановича манил к себе Кавказ, чтобы принять участие в предполагавшейся большой экспедиции кн. Воронцова против резиденции Шамиля, аула Дарго. После сношения по этому предмету с кн. Воронцовым, кн. Барятинский был прикомандирован к кабардинскому егерскому кн. Чернышова полку и 30 мая 1845 г. назначен командиром 3-го батальона этого полка.
Экспедиция против Дарго была неудачной по своим последствиям. Самым блестящим делом во время нее было занятие Андийских высот, выпавшее на долю кн. Барятинского и сразу поставившее его имя наряду с выдающимися и испытанными кавказскими героями. Выбивая горцев из занятых ими укрепленных позиций, кн. Барятинский блестяще выполнил поручение кн. Воронцова и вызвал восторженные одобрения, как главнокомандующего, так и его свиты, наблюдавших издали за действиями батальонного командира, "шедшего, по словам кн. Воронцова, впереди храбрейших и подававшего собою пример мужества и неустрашимости". Тяжело раненный пулею в ногу и награжденный орденом св. Георгия 4 степени, кн. Барятинский снова вынужден был расстаться с Кавказом, вернуться в Петербург, а оттуда для поправления здоровья предпринять продолжительное путешествие за границу. По дороге, однако, при посещении Варшавы, получив от кн. Паскевича предложение принять участие в военных действиях против польских мятежников, он еще отличился, разбив 21 февраля 1846 г. кавалерийский отряд повстанцев под командою Мазараки и отбросив сформированное в Краковском округе войско врагов за границу. За этот подвиг князь был награжден орденом св. Анны 2-й степени.
Вскоре по возвращении из заграничного путешествия, кн. Барятинский получил от кн. Воронцова предложение принять командование кабардинским полком. Как ни лестно было это предложение, князь Барятинский колебался, подозревая, что оно вызвано давлением из Петербурга, не вполне уверенный в искренности расположения кн. Воронцова, тонкий характер которого он со свойственной ему проницательностью успел достаточно изучить, а потому опасался, что его независимость и гордость могут пострадать от столкновения с высшим начальником, отличавшимся, как и он, непреклонною волею. Однако последующее показало, что эти опасения были напрасны. 28 февраля 1847 г. последовал приказ о назначении кн. Барятинского флигель-адъютантом и командиром кабардинского полка. Решение кн. Александра Ивановича расстаться с придворной жизнью вызвало сильные сожаления в Петербургском обществе. Сборы его на Кавказ были продолжительны и сложны. Он решил перенести в свою полковую квартиру всю свою блестящую обстановку столичной жизни, полагая, что полковой командир, в его положении, помимо своих служебных отношений к подчиненным, должен был явиться видным представителем вверенной ему части войска. Отъезд из столицы сопровождался задушевным прощанием с товарищами, а большой свой багаж князь отправил по Волге в виде целой флотилии.
В полку с нетерпением ждали прибытия нового командира. В нем видели друга Наследника, богатого вельможу, лихого товарища, обаятельного собеседника, и при том старого знакомого, героя Андийских высот. Князь Барятинский явился с сознанием важности возложенного на него командования одним из храбрейших полков, за последнее время находившимся не в особой милости. Он был серьезен, педантически требователен и беспощадно строг в соблюдении дисциплины; его начали бояться, перед его нахмуренными бровями трепетали старые кавказцы, о его личности распространялись легенды. Входя во все, подчас мелкие, подробности полкового хозяйства и жизни подчиненных, работал без устали, он вместе с тем сумел сделать свой дом центром полковой жизни. Все, имеющие к нему дело, пользовались совершенно свободным к нему доступом, офицеры аккуратно собирались у него каждый день на обед и ужин, не было недостатка и в развлечениях. Князь не жалел денег на нужды полка и, между прочим, на свой счет вооружил полк штуцерами.
Но рядом с этими ближайшими служебными делами кн. Барятинский непрестанно следил за общим ходом дел на Кавказе, изучал страну и взвешивал наши шансы на успех в борьбе с горцами. Он знакомился с литературой, посвященной Кавказу: сочинение Дюбуа де Монпере "Voyage autour du Caucase" делается его настольной книгою, а в библиотеке его можно было найти записки Пассека, Бюрно, Неверовского о нашем положении на Кавказе. Вникая в установленную кн. Воронцовым систему военных действий, кн. Барятинский находит ее единственно разумной и плодотворной, но вместе с тем считает необходимым сделать в ней существенные поправки и дополнения. Так, он удивлялся тому предпочтению, которое мы отдавали Дагестану пред Чечней для покорения Восточного Кавказа, и уже тогда высказал взгляд, что крайность и истощение средств горцев должны наступить с потерей Чечни, - взгляд, впоследствии блистательно подтвердившийся и послуживший исходной точкой отправления при окончательном замирении Кавказа. Эта подготовка к будущей работе, занятия в тиши кабинета делаются все упорнее и продолжительнее, и не раз утренняя заря застает кн. Александра Ивановича погруженным в изучение интересующих его вопросов, не раз он подает в серьезных случаях и свое мнение, не ограничиваясь одним исполнением распоряжений начальства. Так, по его указанию, штаб-квартира полка переносится из кр. Внезапной в Хасав-Юрт, что имело важное стратегическое преимущество и обеспечивало наши войска удобным местопребыванием и сообщением с главными действующими силами; по его представлению изменяется дислокация войск на Кумыкской плоскости, и видах защиты покорных нам племен и с целью обеспечения наших сношений с Дагестаном и с левым флангом Кавказской линии; по его же мнению выбрано новое, более удобное место для постройки моста через Терек. Все это значительно возвышало кн. Барятинского в глазах кн. Воронцова, и из их обширной переписки видно, насколько ценил главнокомандующий стратегические способности молодого полкового командира.
Из чисто боевых подвигов кн. Барятинского за это время следует прежде всего упомянуть о деле при ауле Зандак, где он, исполнив существенную сторону поручения - отвлечь неприятеля от наших главных сил, - сумел воздержаться от тщеславного желания овладеть ценою гибели множества солдат неприятельскою пушкою, и этим обнаружил свой верный военный взгляд и распорядительность. В ноябре и декабре 1847 г. он предпринял ряд удачных набегов на Шамилевские аулы, за что был награжден орденом св. Владимира 3 степени. Летом 1848 г., действуя со своими кабардинцами в отряде кн. Аргутинского-Долгорукого, кн. Барятинский при взятии аула Гергебиля своей стойкостью и распорядительностью более всего содействовал успеху дела, и за это был произведен в генерал-майоры свиты Его Величества.
Неумеренная жизнь годов юности начинала однако сказываться сперва легкими, а потом все усиливающимися приступами подагры, которые вызывали жестокие страдания, производили удручающее влияние на душевное настроение кн. Александра Ивановича и вынудили его снова ходатайствовать об отпуске, разрешенном ему осенью 1848 г. Придворные сферы с нетерпением ждали прибытия в Петербург кн. Барятинского, задумав его сватать; но эти паны не входили в расчеты князя, а потому, получив о них сведения, он, под видом болезни, остановился в Туле, протянул здесь время своего отпуска и, считая его оконченным, поспешил на Кавказ. Фельдъегерю, посланному ему вслед, князь указал на свою болезнь глаз, усталость и необходимость пребывания в полку. Этим он отсрочил свой приезд в Петербург еще на год. Эпизод этот не остался без влияния на отношения к кн. Барятинскому кн. Воронцова, который понял, что Царская Семья уже несколько иначе смотрит на князя Александра Ивановича, а вместе с тем сплетни об отзывах кн. Барятинского о деятельности наместника не могли не вызвать в нем охлаждения. В то же время друзья и родственники из Петербурга давали понять, что кн. Барятинскому необходимо появиться при дворе для восстановления своего прежнего положения. Вследствие всего этого в 1850 г., распростившись с полком, кн. Барятинский явился в Петербург.
Встречен он был в петербургских салонах, где видели охлаждение к нему Государя и Государыни, несмотря на ежедневные свидания с Цесаревичем, далеко не так приветливо, как раньше. Сам кн. Барятинский подчеркивал своим поведением, что не ищет милости Двора и расположения общества. Чтобы показать свое равнодушие к свету, он изменил даже наружность: обстриг свои кудри, отпустил тупые подстриженные бакенбарды, ходил немного сгорбившись и опираясь на палку. Это придавало ему, при его загоревшем, обветрившемся лице, вид бравого служаки и уничтожало прежнее представление об изящном царедворце. Он принял меры к тому, чтобы лишить себя заманчивого качества богатого жениха, повесив на елку у матери в виде сюрприза передачу майората второму своему брату, князю Владимиру Ивановичу. Князь Александр Иванович перестал появляться в свете, пребывая в тесном кругу близких людей и за занятиями по изучению разных государственных вопросов, главным образом касающихся дел дорогого ему Кавказа, уясняя себе, как государственные потребности и значение этого края, так и средства к окончательному в нем водворению русской власти. Анализируя систему действий Ермолова и кн. Воронцова, он отдавал предпочтение последнему, причем указывал и здесь существенные недостатки: отсутствие непрерывности в военных действиях и ошибочность некоторых административных мероприятий. Признавая правильным мнение генерала Вельяминова, что "Кавказ есть крепость, чрезвычайно твердая по местоположению, искусно огражденная укреплениями и обороняемая многочисленным гарнизоном", кн. Барятинский считал необходимым теснить гарнизон крепости непрерывно, наносить ему один удар за другим и вместе с тем ослаблять его жизненность и энергию путем лишений и разобщения с могущими явиться подкреплениями со стороны. Он был глубоко убежден, что могущество Шамиля недолговечно и что, при неослабной энергии русской власти, умиротворение горцев не представляется недосягаемым. Не нужно только давать противнику времени набраться сил и показывать ему, что его считают опасным; вместе с тем не обходимо привлекать к себе расположение той среды, в которой действует враг, и ни на минуту не упускать из виду те места, где уже достигнуты успокоение и покорность.
Пребывание в полном служебном бездействии, неизвестность, что его ожидает в будущем, тяготили кн. Барятинского, И когда наконец в 1850 г. военный министр запросил его, по Высочайшему повелению, при котором из корпусов он желает состоять, Новгородском или Кавказском, кн. Александр Иванович, после некоторого колебания, решил вернуться на Кавказ, несмотря на свои пошатнувшиеся отношения к кн. Воронцову. 23 мая 1850 г. кн. Барятинский был назначен состоять при Кавказской армии, и на него возложено было сопровождать Цесаревича в путешествии по Кавказу. Свидание с кн. Воронцовым в Кисловодске не отличалось особенною сердечностью, но с прибытием осенью на Кавказ Цесаревича, положение кн. Барятинского сразу изменилось. Во-первых, все убедились в дружеском к нему отношении представителя Царской Семьи, во вторых, кн. Воронцов увидел, что кн. Александр Иванович всеми силами старается выставить рельефно заслуги его в глазах Наследника, и что интриги, породившие его охлаждение к кн. Барятинскому, не заслуживают доверия. Добрые отношения восстановились, и 17 октября 1850 г. состоялось назначение кн. Барятинского командиром кавказской гренадерской бригады с правами начальника дивизии.
В течение зимы 1851 г. усилия наших войск были направлены на уничтожение устроенного Шамилем в Чечне Шалинского окопа, что и сделано было удачным обходным движением без пролития крови. Кроме того кн. Барятинскому удалось нанести горцам жестокое поражение при речке Бас и захватить много оружия и лошадей. Ряд летних и зимних экспедиций в 1851-52 гг. на площади Большой Чечни дал нам возможность в первый раз после возмущения горцев пройти ее вдоль от крепости Воздвиженской до укрепления Куринского. С тех пор главный оплот владычества Шамиля стал для наших войск доступным во всякое время года. Особенно удачным был разгром имама близ Чертугаевской переправы, Наступательное движение кн. Барятинского всегда отличалось самой незначительной потерей людей при стычках с неприятелем, благодаря тактическому приему постоянных обходных движений, укрывавшихся от наблюдений врагов до известного момента искусными фальшивыми маневрами против неприятельского фронта. Отлично организованная система собирания сведений о планах Шамиля через лазутчиков давала возможность кн. Барятинскому предупреждать намерения неприятеля и строить свои расчеты почти с безошибочной точностью. Не меньшего успеха удалось кн. Барятинскому достигнуть и в южных округах Чечни и со стороны Кумыкской плоскости, где крутые берега Мичика делали движение войск особенно трудным. В зиму 1852-53 гг. наши войска прочно заняли Хоби-Шавдонские высоты, через Каякальский хребет проложили удобную дорогу, а через Мичик устроили постоянную переправу. Годы деятельной энергии кн. Барятинского в качестве бригадного командира и начальника дивизии, а летом - командующего левым флангом войск (эту должность кн. Воронцов предоставил ему после генерала Нестерова) подготовили окончательное падение влияния Шамиля и открыли русским войскам прежде неприступные аулы, благодаря целому ряду новых просек и дорог. Просечные работы обращали на себя особенное серьезное внимание кн. Барятинского.
Рядом с военными действиями кн. Барятинский обнаруживает замечательные административные соображения. При нем в Чечне устраиваются многочисленные новые аулы, а в старых население удваивается, так как чеченцы, лишенные средств пропитания и истомленные войной, бросают массами знамя Шамиля и изъявляют покорность русской власти. Этому движению значительно способствовало устройство кн. Барятинским в крепости Грозной чеченского народного суда (мехкеме), по образцу судов для кумыков и кабардинцев, устроенных еще Ермоловым. В этом суде, согласованном с местным обычным правом, члены суда и председатель имели решающий голос, а мулла, истолкователь шариата, сохранял лишь голос совещательный, чем влияние его на население, по большей части враждебное русской власти, сильно ослаблялось. Князь Барятинский выказал самое внимательное отношение к устройству мехкеме, и назначив его председателем ориенталиста полковника И. А. Бартоломея, скоро превратил этот суд в любимое и уважаемое учреждение чеченцев.
Кн. Воронцов, поддерживавший с начальником левого фланга, которого вскоре назначил начальником своего штаба, обширную переписку, постоянно высказывал ему полное свое удовольствие по предмету действий и начинаний в Чеченской области и объявлял ему согласие на делаемые представления. В январе 1853 г. кн. Барятинский был назначен генерал-адъютантом, а осенью того же года утвержден в должности начальника штаба, чем ему открывался широкий простор к проведению своих стратегических планов покорения горцев. Но вспыхнувшая в это время Крымская война временно создала особое положение в ходе наших действий на Кавказе, и наша роль тут в период 1853-56 гг. ограничилась сохранением того, чего мы достигли в предшествующие годы. И эти результаты были чрезвычайно важны, так как горцы, особенно на Западном Кавказе, подстрекаемые турками, англичанами и французами, проявили особенно воинственное настроение и причинили нам немало беспокойств. На долю кн. Барятинского выпало в войне с турками еще раз проявить свой стратегический талант, в сражении с 60-тысячной Анатолийской армией Мушир-Зариф-Мустафы-паши. За поражение этой армии при Кюрюк-Дара, преимущественно благодаря распорядительности и находчивости кн. Барятинского, ему был пожалован орден св. Георгия 3 степени.
После ухода кн. Воронцова и назначения H. H. Муравьева, державшегося иных воззрений на нашу борьбу с горцами, кн. Барятинский не счел для себя удобным сохранить должность начальника штаба и отпросился в отпуск в Петербург. Здесь он был назначен состоять при особе только что вступившего на престол Императора Александра Николаевича и в этой должности сопровождал Государя в его поездке в Москву и в Крым, где ему было поручено с 27 сентября по 28 октября 1855 г. командование всеми войсками, собранными в Николаеве и его окрестностях. По возвращении в Петербург кн. Александр Иванович был назначен командиром резервного гвардейского корпуса. Недоброжелатели князя Барятинского были уверены, что он, в качестве начальника этой части войска, окажется слабым перед знаниями и выправкой своих подчиненных, считавшихся великими знатоками строя, постоянно отличавшимися на смотрах, но он сумел с честью выйти из испытания, оказался на высоте истинного знания военной службы и сделал своим подчиненным много наставлений относительно того, что должно требовать от солдата и в чем заключается сила духа армии. За командование этим корпусом кн. Барятинскому был пожалован орден Белого Орла.
За это время кн. Барятинский представил несколько записок по вопросу об окончательном замирении Кавказа, настаивая на необходимости с этою целью удержать на Кавказе до окончания войны с горцами 13-ю и 18-ю пехотные дивизии, переведенные туда во время Крымской войны, так как такое усиление Кавказской армии даст возможность приступить к решительным действиям. Этот взгляд, в пользу которого высказался и Д. А. Милютин, был одобрен Государем, и две упомянутые дивизии оставлены на Кавказе. 22 июля 1856 г. состоялось назначение кн. Барятинского командующим отдельным Кавказским корпусом и исправляющим должность наместника Кавказского со всеми правами, которые были предоставлены его предшественнику. Некоторые петербургские кружки находили, что кн. Барятинский слишком молод для такой ответственной должности, вспоминали разные его прегрешения молодых лет; но люди, серьезно смотревшие на дело, понимали всю важность этого назначения. На Кавказе весть об этом вызвала редкое ликование. Кавказ, от мала до велика, от рядового до генерала, был счастлив и гордился тем, что новый начальник свой человек, крещенный кавказским огнем, дважды пронзенный горской пулей и знающий страну и ее население вдоль и поперек. Эта общая радость ярко выражалась в статьях газеты "Кавказ".
На торжествах коронации Императора Александра II кн. Барятинский привлекал общее внимание и своей личностью и той блестящей обстановкой, которой он себя умел окружить; но при этом он не упустил возможности в беседах с А. П. Ермоловым почерпнуть для себя важные указания военного опыта. В сентябре 1856 г. новый наместник Кавказа Волгой, через Астрахань на Петровское отправился во вверенный ему край. Путешествие водою и тем путем, которым он 10 лет тому назад отправил свой багаж, было им избрано не даром. Тогда он имел в виду указать на наиболее для нас удобный путь торговых сношений с Кавказом, а в настоящее время его внимание было занято соображениями относительно упрочения русской власти в Закаспийском крае, как для развития торговли с Востоком, так и для расширения нашего политического влияния в Азии. По этому предмету он из Шемахи представил генерал-адмиралу записку о необходимости проведения закаспийской железной дороги, но эта мысль не встретила поддержки в бюрократических сферах Петербурга.
Кн. Барятинский отдал следующий приказ по армии: "Воины Кавказа! Смотря на вас и дивясь вам, я вырос и возмужал. От вас и ради вас я осчастливлен быть вождем вашим, и трудиться буду, чтобы оправдать такую милость, счастие и великую для меня честь. Да поможет нам Бог во всех предприятиях на славу Государя". Население всюду встречало князя Барятинского изъявлениями неподдельной радости, а встреча в Тифлисе была особенно торжественна и сопровождалась поднесением хлеба-соли и шумными празднествами.
Обширные задачи предстояли новому начальнику края; среди них на первом плане стояло окончание войны, которая истомила край, отвлекла население от мирных занятий и поглощала громадные средства государственной казны. Всякое промедление грозило усилением на Кавказе влияния английских агентов, употреблявших все силы, чтобы восстановить против нас горские племена и разрушить достигнутые уже нами успехи. Кавказ в глазах кн. Барятинского служил тем базисом, на который должно было опираться: русское влияние в восточном вопросе. Только стоя к этом крае твердою ногой, Россия приобретала безопасность со стороны Европы в стремлениях на Восток. Помимо своей политической и стратегической роли, Кавказ, по мнению кн. Барятинского, должен был служить и неиссякаемым источником прилива средств в государственную казну, для чего надлежало только поднять его культуру и вести здесь разумное гражданское управление, которое, не обезличивая местные народности, связало бы их неразрывными узами с Россией.
Кн. Барятинский явился на Кавказ с самыми широкими полномочиями. И в военном, и в гражданском управлении края им были намечены важные мероприятия, из которых одну часть удалось выполнить вполне, к осуществлению другой приступить лить отчасти, а третью только наметить вчерне. Тотчас по назначении приступил он к реорганизации военного управления, главным недостатком которого было отсутствие необходимой самостоятельности отдельных начальников, а вместе с тем признал необходимым привести дислокацию войск в соответствие с военно-административным делением края. С этими целями главнокомандующий разделил войска на пять главных отделов: 1) Правое крыло Кавказской линии, подчиненное начальнику 19-й пехот. дивизии, 2) Левое крыло, подчиненное начальнику 20 пехот. дивизии, 3) Прикаспийский край и Дербентская губерния под управлением начальника 21 пехот. дивизии, 4) Лезгинская кордонная линия с Джаро-Белоканским округом, подчиненная начальнику Кавказской гренадерской дивизии, 5) Кутаисское генерал-губернаторство со включением 3 отделения бывшей Черноморской береговой линии. Звание командующего войсками на Кавказской линии и в Черномории упразднено, а начальникам отделов присвоена власть командиров на линии. Соответственно этому новому порядку были распределены и войска, причем. дивизии 13 и 18 были расформированы по 4 первым отделам.
Из ближайших сотрудников кн. Барятинского, за время его управления Кавказом, по военной части особенно выделяются Д. А. Милютин, в качестве начальника штаба много содействовавший разработке военно-административных и стратегических вопросов, и Н. И. Евдокимов, начальник левого крыла, сумевший в течение 3 лет довести войну до благополучного конца.
В общих чертах программа военных действий, составленная Барятинским, была следующая: Евдокимов должен был нанести Шамилю окончательный удар в Чечне и с этой стороны проникнуть в Дагестан; со стороны Прикаспийского края надлежало утвердиться в Салатавии, чтобы стратегически связать Дагестанские и Чеченские войска и занять твердое положение в горах; со стороны Лезгинской линии поставлено было задачей ежегодно систематически разорять непокорные общества и довести их до полного ослабления. Утверждение на плоскости Чечни и оккупация Салатавии имели целью лишить Шамиля богатых областей его территории и вместе с тем сокращало длину блокадной линии. Таким образом отвлекаемые от обычных своих занятий и беспрерывно тревожимые нашими наступающими отрядами, горцы по неизбежности должны были рано или поздно смириться, причем кн. Барятинский был уверен в очень скором наступлении этого момента, тогда как его сотрудники, даже такие, как Д. А. Милютин и Н. И. Евдокимов, почти до самого конца борьбы с Шамилем, ошибочно полагали, что она должна еще продлиться, и вследствие этого не проявляли той решительности, которою отличались все действия наместника. Что касается некоторых горских племен Западного Кавказа, то на первое время по отношению к ним предполагалось возобновление Анапы, устройство Адагумской линии и продолжение линии Белоречинской. Адагумская линия и основание Майкопского укрепления на реке Белой отрезывали у неприятеля часть плоскости и обеспечивали русские поселения на Кубани, а также переносили наши боевые средства ближе к горам. В Западном Кавказе, со стороны Закавказья, было намечено возобновление крепости Гагры, запирающей путь вдоль Черноморского побережья от черкесских племен, и кроме того предположена была экспедиция в Сванетию.
Особенно успешны были наши действия на Восточном Кавказе, где ген. Евдокимов привел к концу то, что кн. Барятинский начал еще в 1851-53 гг., занимая должность начальника левого фланга. Одновременно с этими действиями в Чечне было с другой стороны выполнено занятие Салатавии. В период экспедиций на Западном Кавказе кн. Барятинский лишился на первых же порах одного из своих вновь избранных помощников, кн. А. И. Гагарина, Кутаисского генерал-губернатора, павшего от руки владетеля автономной Сванетии, кн. Константна Дадешкелиани. Этот факт, а также вспыхнувшее в Мингрельском княжестве восстание крестьян, были поводом к упразднению двух автономий, Мингрельской и Сванетской, что было делом государственной необходимости, так как эти две самоуправляющиеся области являлись вредным анахронизмом в общем строе управления, создаваемом новым наместником.
Одновременно с этими военно-административными и стратегическими преобразованиями, кн. Барятинский проводит на Кавказе ряд мероприятий, долженствующих поднять благосостояние края, ввести в нем порядок, законность и усилить значение органов русской власти; для этих преобразований он имел широкий простор, пользуясь Высочайше дарованным ему правом реформировать старые и вводить новые учреждения, без утверждения их законодательным порядком, "в виде опыта, на три года". Уже в 1856 г., расформировав главное управление наместничества, он учреждает особый комитет для обсуждения основ, на которых должна быть произведена реформа управления. Комитет этот, исходя из ряда соображений, предположил: 1) Взамен должности начальника гражданского управления учредить должность начальника главного управления, который, будучи ближайшим в делах гражданских помощником наместника, должен, под главным его руководством, заведовать всеми частями управления и вести переписку, не требующую распоряжений в высшем отношении, и таким образом иметь по гражданским делам то же значение, которое по делам военным принадлежит начальнику штаба. 2) Главное управление делами Кавказского и Закаспийского края, назвав его главным управлением наместника Кавказского, образовать из отдельных частей, которые, заведуя специальными отраслями администрации, по своему составу и кругу действий заменяли бы посредствующие между министрами и подчиненными им местами учреждения, существующие во всех министерствах. Поэтому под ближайшим заведованием начальника главного управления решено учредить следующие департаменты: а) общих дел; б) судебных дел; в) финансовый, для сосредоточения в нем высшего счетоводства по местным доходам и расходам и по денежным земским повинностям в Закавказском крае; а также для заведования делами по питейным сборам, горной и соляной частям таможенному управлению и по мерам, относящимся к оживлению торговли внутренней и внешней, поощрению заводской и мануфактурной промышленности; г) государственных имуществ, для заведования казенными землями и вообще государственными крестьянами всех наименований; д) в неразделенный с департаментами состав главного управления ввести особое управление сельского хозяйства и колоний иностранных поселенцев на Кавказе. 3) Оставив при главном управлении в виде особого установления существующее особое о земских повинностях присутствие, для дел, к земским повинностям по Закавказскому краю относящихся, изменить его личный состав и принятый в оном порядок производства дел, сообразно новому устройству главного управления. По прочим же делам, в случаях особенной важности, в кругу административном возникающих, когда предстоит принять какое-либо общее распоряжение по разным частям управлении, предоставить начальнику главного управления составлять из директоров совещательные собрания. 4) При таком устройстве главного управления, когда все части его будут подчинены особым специальным лицам, обязанным ближайшею ответственностью за их благоустройство, изменить организацию бывшего совета главного управления Закавказского края и именовать его советом наместника, с направлением деятельности его не столько на текущие дела администрации (которые будут разрешаемы совещаниями административных лиц, т. е. начальников частей с начальником главного управления), сколько на важнейшие вопросы, которые будут передаваемы на его обсуждение наместником. 5) Затем, под ближайшим и непосредственным надзором и руководством наместника, учреждалось временное отделение по делам гражданского устройства края, для производства дел и переписки по особым предначертаниям и приказаниям наместника, а также для приготовления и обработки проектов, положений, новых правил и инструкций по вопросам общим, имеющим ближайшее отношение к устройству разных частей управлении и к развитию народного благосостояния в крае. При этом признано удобным в лице управляющего сим отделением соединить звание и обязанности директора походной канцелярии наместника.
Мероприятия кн. Барятинского по улучшению Кавказского управления обнимали собою все области общественной жизни. Так, в вопросе об учебной части кн. Барятинский настоял на упразднении учебного округа, передав все права и обязанности попечителя начальникам отдельных местностей края, а делопроизводство по наблюдению за учебной частью сосредоточил в главном управлении наместника. В 1858 г. кн. Барятинский учредил управление сельского хозяйства и колоний иностранных поселенцев (впрочем через 2 года расформированное), имевшее назначением усиление природной производительности края. Немало было положено труда на улучшение строительной и дорожной части, благодаря чему проложены были в некоторых прежде глухих и неудобных для сообщения местах прекрасные дороги и шоссе, концом же работы в этом отношении является сооружение Военно-Грузинской дороги. Великое значение наместник придавал постройке железных дорог и организации пароходных сообщений, но в этом отношении ему не удалось достигнуть каких-либо существенных результатов, хотя и было заведено пароходство по Кубани и Риону, а партия иностранных инженеров составила проект железной дороги от Поти до Баку (приведенный в исполнение гораздо позднее) и выработала план орошения, экономическое значение которого для Кавказского края очень высоко ставил наместник. Предполагая распространить крестьянскую реформу на Закавказский край, кн. Барятинский учредил в Тифлисе центральный комитет по устройству быта Закавказских крестьян, но это дело было завершено уже при его преемнике. Запутанность и даже полное отсутствие межевания также служило предметом забот наместника, хотя важных улучшений в этом деле не последовало. Серьезное значение имело преобразование судопроизводства, замена сборника царя Вахтанга общими русскими гражданскими законами. Но особенное внимание кн. Барятинского привлекли дела церковные, так как в проповеди христианства среди горцев он видел наилучшее средство скрепления Кавказского края с остальной Россией. По этому предмету наместником была представлена Государю обширная записка о необходимости восстановления среди горцев христианства, когда-то среди них существовавшего, как это показывают остатки христианских святынь, находимые в горах, а для этого предполагалось учредить Братство Воздвижения Креста, имеющее целью сооружение и содержание церквей и духовенства в горских областях, подготовку проповедников христианского учения, заведение школ при церквах, в которых инородческие дети воспитывались бы в духе православия, а также перевод на всевозможные кавказские наречия св. Писания и катехизиса. Записка кн. Барятинского, переданная в Кавказский комитет, с некоторыми изменениями была препровождена Св. Синоду, и после возражений, представленных митр. Филаретом и графом Блудовым, было учреждено Общество восстановления православного христианства на Кавказе, под высшим покровительством Императрицы Марии Александровны. Цель и организация общества близко подходили к тому, что намечено было в записке кн. Барятинского.
В военных действиях 1858-59 г. г. замечается выполнение основных требований программы главнокомандующего: наше движение отличается упорной непрерывностью и резко выраженным наступательным характером, после занятия Салатавии и Ауха. Утвердившись на Черных горах, левое крыло получило возможность перейти в безлесную полосу, пролегающую между Черными горами и Андийским хребтом, откуда уже открывался доступ к обществам внутреннего Дагестана, не отличающимся тою воинственностью, какую мы привыкли встречать в горцах Чечни. Одна экспедиция за другой изнурили и ослабили окончательно аулы Чечни, и здешние жители вынуждены были отдать себя великодушию победителей. Вследствие этого оказалось возможным разместить по заранее намеченным, вполне доступным местам ряд мирных аулов. Шамиль спешил сосредоточить свои оставшиеся немногочисленные силы в неприступном Ведене.
Между тем наши отряды наступали со всех сторон. Горские племена одно за другим изъявляли покорность. Главнокомандующий в этом году занят был объездом Северного Кавказа, а из Коби, где его с донесениями о военных действиях встретил Евдокимов, кн. Барятинский последовал к левому крылу до Хасов-Юрта. Эти поездки имели чрезвычайно важное значение. Появление его в центре нашего войска, давно его не видавшего, должно было придать одушевление солдатам к предстоявшим в 1859 г. военным действиям. Кроме того, ему нужно было проверить, на сколько намеченный им план действий и наступательная беспрерывная система выполняются начальниками отделов и оправдывают его ожидания. Все виденное и слышанное им на театре военных действий оставило в нем чувство полного удовлетворения, но, осыпая ген. Евдокимова отличиями, он тем не менее находил в его распоряжениях некоторую медленность и нерешительность и считал нужным торопить его с окончанием военных действий против Шамиля. По свойству своего характера кн. Барятинский считал однажды задуманное подлежащим возможно быстрому и решительному исполнению, причем препятствия падали сами собой. Умея верно рассчитать шансы успеха, наместник действовал решительно и безошибочно.
В апреле кн. Барятинский отправился по Тереку в Ставрополь, Черноморию, Керчь, на Лабу, в Майкоп, Кисловодск и Пятигорск, а из Владикавказа совершил поездку по правому берегу Терека. Появление его повсюду вызывало восторг, и не только со стороны русских людей и войска, но и со стороны только что замиренных горцев. Главнокомандующий умел придать своему путешествию особенный блеск и пышность, причем на изъявивших покорность туземцев сыпались подарки, правда, не Бог весть какие дорогие, но тем не менее производившие необыкновенное впечатление. Ехавший при нем казначей всегда держал наготове мешок с золотой и серебряной монетой, которую князь рассыпал на своем пути. Эти денежные подачки вселяли жадным до добычи горцам особенное почтение к роскоши представителя царской власти, в сравнении с которым, конечно, Шамиль совершенно стушевывался, так как конкурировать в этом с русским главнокомандующим он не был в состоянии.
1 апреля 1859 г. Евдокимов овладел Веденем. Шамиль бежал в Дагестан, а непокорные общества Черных гор и промежуточной местности к Андийскому хребту изъявили свою покорность. Донося о падении Веденя Государю, кн. Барятинский так оценил это событие: "Успех этот особенно славен для русского оружия, потому что с этого дня будет считаться покорение народонаселения, обитающего между Каспийским морем и Военно-Грузинской дорогой. Решаюсь это говорить с уверенностью". Теперь на долю русских войск, согласно плану, выработанному кн. Барятинским, предстояло произвести летом 1859 г. наступление в горы восточного Дагестана с трех сторон с целью занятием этой области завершить покорение Восточного Кавказа. План свой главнокомандующий пожелал доложить Государю в личной беседе, для чего в июне он отправился в Петербург, где все его представления удостоились Высочайшего одобрения. Уверенность кн. Барятинского, что дни независимости Шамиля сочтены, была так велика, что в беседе с Государем он испросил даже обещание пожаловать полковнику Трамповскому чин генерал-майора за доставление Шамиля в самом ближайшем будущем в Петербург, а самому Шамилю, согласно древнему обычаю, шубу с царского плеча; проездом же через Москву кн. Барятинский заказал даже дорожную коляску, в которой должен был приехать глава мюридизма. Такой уверенности не было ни у Д. А. Милютина, ни у гр. Евдокимова, который готовился еще долго воевать с Шамилем.
В июле кн. Барятинский стянул к месту пребывания Шамиля войско в 40000 человек при 48 орудиях, сам стал во главе этих обширных военных сил и лично распоряжался наступлением. Шамиль засел в укрепленной позиции у средины течения Койсу, занимая оба берега реки. Искусными стратегическими движениями Барятинский стеснил войска Шамиля и разобщил их с остальной массой непокорного населения. Вследствие этого по всей стране поднялись восстания против Шамиля, и горские племена одно за другим спешили изъявить нам покорность. Видя свое критическое положение, Шамиль заперся в Гунибе, месте, по своим природным условиям почти совершенно недоступном для нападения; но уже через 2½ недели гора Гуниб-Даг была плотно окружена русскими войсками, а близлежащие горские племена приведены в покорность. Последствием всех этих удачных действий было покорение Аварии, Койсубу и других местностей Дагестана, а за такие успехи, достигнутые с сравнительно незначительными тратами средств и убылью людей, кн. Барятинскому был пожалован орден св. Георгия 3 степени.
10 августа началась правильная блокада Шамиля, а глава мюридов приступил к переговорам об условиях сдачи, желая затянуть время и имея в виду, что с наступлением осени всякие военные действия здесь должны быть прекращены. Кн. Барятинский понял цели противника, прекратил с ним переговоры и 25 августа занял охотниками апшеронского полка северо-западный угол Гуниба в 8 верстах от аула. Когда же неприятель, заметив наступление нашего войска с этой стороны, решил опрокинуться на него со всею стремительностью, он увидал, что и с тыла настигают его грузинский и самурский полки. Горцы разделились: часть их бросилась на штыки солдат и погибла, а другая часть вместе с Шамилем засела по скалам Гуниба. Кн. Барятинский, убедившись, что Шамилю нет спасения, и не желая проливать лишней крови, предложил ему сдаться, обещая ему и его семье полную безопасность. После довольно продолжительных переговоров Шамиль, наконец, отдал себя великодушию победителя, и этим завершилась многолетняя война на Восточном Кавказе. О победе русских войск кн. Барятинский объявил следующим кратким приказом: "Гуниб взят. Шамиль в плену. Поздравляю Кавказскую армию". Немедленно была послана депеша Государю, извещавшая ко дню тезоименитства его о радостном событии, недавно предсказанном. Шамиль под наблюдением Трамповского был отправлен в Петербург, а сам главнокомандующий возвратился в Тифлис. За покорение Восточного Кавказа кн. Барятинскому был пожалован орден св. Андрея Первозванного. Въезд в Тифлис сопровождался невиданным торжеством, в парадном спектакле была представлена слава в виде женщины с огненным венком на голове и с вензелем кн. Барятинского по бокам, грузинское дворянство постановило соорудить триумфальную арку с надписью "Покорителю Кавказа благодарная Грузия", но последнему постановлению не суждено было осуществиться.
Что касается наших действий на Западном Кавказе, то и здесь, благодаря энергии кн. Барятинского, мы пользовались значительными успехами, хотя и не столь блестящими, как на Восточном Кавказе. В течение 1858-59 гг. многие горские племена решили подчиниться русской власти, - это были: бжедухи, темиргоевцы, магашевцы, егерукаевцы, бесельнеевцы, закубанские и кабардинские и шахгиреевцы, а также большие народности абадзехов и натухайцев, всего от 150 до 200 тысяч человек. За действия на Западном Кавказе кн. Барятинский назначен шефом кабардинского полка и произведен в генерал-фельдмаршалы. Фельдмаршальский жезл был встречен в Тифлисе с энтузиазмом, как награда всему Кавказу , по выражению кн. Орбелиани.
Во внутренней России все образованное общество на перерыв спешило выразить кн. Барятинскому чувство восторга и преклонение пред его военным гением, что особенно хорошо выражено в статьях М. П. Погодина. Император Александр Николаевич изъявил трогательное благоволение при свидании с фельдмаршалом и щедро наградил его сподвижников, Д. А. Милютина и гр. Евдокимова. Не забыт был и Шамиль, за которого кн. Барятинский предстательствовал пред Государем, прося, чтобы его жизнь была материально вполне обеспечена соответственно тому положению, которое он некогда занимал.
На Кавказе 1860 год был временем усиленного военно-административного устроения. В восточной части края нужно было спешить упрочением занятого нами положения во вновь присоединенных областях, где в силу исторической инерции волнения не могли сразу затихнуть и принимали на столько острый характер в Чечне и Дагестане, что их пришлось смирять оружием, вместе с чем, однако, требовались такие административные меры, которые могли служить некоторым удовлетворением справедливых желаний горцев, как напр. сокращение числа станиц, стеснявших земельное пользование горцев. В западной части Кавказа мы должны были продолжать прежнюю наступательную политику. Здесь приходилось иметь в виду возможный вред, как со стороны туземцев, так и со стороны европейских врагов России. Ввиду именно обеспечения западной границы Кавказа от вторжения европейского войска и для скорейшей готовности России принять необходимые в этом случае меры, кн. Барятинский делал энергичные распоряжения по разработке вьючной дороги из Абхазии в общество Псху, а равно по проложению Кутаисско-Сухумской дороги. Вместе с тем в кутаисском генерал-губернаторстве были сформированы два новых отряда войск. Немало забот причинило фельдмаршалу водворение порядка в Сванетии, в обществе Псху, примирение враждующих между собою родов в Цебельде и восстановление тут народного суда. Важным и трудным делом было выселение на плоскость некоторых особенно беспокойных черкесских обществ и устройство по обоим склонам Кавказского хребта ряда укрепленных казачьих станиц. Для скорейшего приведения в порядок закубанских дел, фельдмаршал поручил гр. Евдокимову командование правым крылом, сохранив за ним начальство и над левым крылом; дела же штаба армии, за отъездом Д. А. Милютина в Петербург на пост товарища министра, он передал генералу Филипсону, предшественнику Евдокимова на правом крыле. Сам кн. Барятинский по расстроенному здоровью вынужден был для леченья поселиться к Боржоме, откуда и следил за исполнением своих распоряжений.
В этот период состоялось упразднение особого Черноморского казачьего войска, а казаки, его составлявшие, были присоединены к войскам Терскому и Кубанскому. Эта мера представлялась кн. Барятинскому необходимой для искоренения заносчивости и своеволия этих потомков запорожцев. В этих видах гр. Евдокимов беспрерывно оттеснял горцев к морю, а на покинутые ими места передвигал казаков. Переселения было решено производить целыми станицами, начиная с полков херсонской и кубанской бригад и из ейского округа, черноморского округа. Но казаки не пожелали двигаться на новые места, между ними возникли сильные волнения, для усмирения которых пришлось прибегнуть к строгим мерам.
Эти недоразумения крайне огорчали кн. Барятинского, здоровье которого было уже сильно расстроено. Уже последнюю экспедицию в Дагестан он совершил с большим трудом, и ему приходилось употреблять неимоверные усилия своей крепкой воли, чтобы не показывать окружающим, как велики его страдания. Сильные приступы болезни заставили его злоупотреблять прописанным ему лекарством, а это вызвало страшные боли в костях ног и рук, боли желудка и обмороки, и наконец довело наместника до полной потери сил. Такое состояние здоровья побудило фельдмаршала, по представлении Государю отчета об управлении краем за 1857-1859 гг., отправиться в продолжительный заграничный отпуск и в апреле 1860 г. проститься с Кавказом. И в отсутствии фельдмаршала наши действия по замирению и заселению Западного Кавказа продолжались, согласно его инструкциям и программе, так что к концу 1862 г. весь Закубанский край до хребта был очищен от горцев и подготовлен к занятию казачьими станицами.
В отчете, представленном кн. Барятинским перед отъездом за границу, в особенности обращают на себя внимание его взгляды на управление горцами. На первом плане он отмечал необходимость основания народного управления, при котором суду шариата будут подведомственны исключительно дела духовные; словесное же судопроизводство, основанное на обычном праве (адате), и установление дворянского сословия дадут возможность ввести в суде начала гражданские, сближающие горцев с русскими порядками. Письменное изложение адата для каждого племени, с разъяснениями понятий о собственности и в связи со взглядами русской власти, является, по мнению кн. Барятинского, вернейшим шагом к ослаблению зловредной власти мюридов. Одновременно с этим фельдмаршал отмечал необходимость позаботиться о развитии торговли, промышленности и народного образования, в особенности женщин, через которых русское влияние прочнее всего установится в семьях горцев. Необходимо также разобраться в той путанице земельных отношений, которая была создана непрерывными войнами, и для этого фельдмаршал учредил в округах, на которые были разделены области Кавказа, особые комитеты, поручив им расследовать и определить личные права сословий и преимущества, долженствующие быть предоставленными высшим сословиям. Во всем видно стремление наместника тесно связать край с государством, не обезличивая разные мелкие народности, искони живущие в стране. Немало забот выпало на долю кн. Барятинского в деле примирения интересов государственного бюджета с громадными расходами, требовавшимися для умиротворения и управления Кавказа. Кн. Барятинский указывал, что, когда дело идет о приобретении целого края, как источника будущих государственных богатств, вопросы временной экономии, основанные часто на теоретических соображениях, должны отступать на второй план.
По возвращении из-за границы, отправляясь на Кавказ, проездом через Вильну, кн. Барятинский почувствовал себя настолько плохо, что вынужден был здесь остановиться. Серьезные обстоятельства внутренней жизни России за то время заставили его много передумать об исторических условиях нашей жизни, о нуждах государства и о том состоянии, в котором находилось наше общество под давлением различных событий. Свои размышления кн. Барятинский изложил в письме к Государю. Он рисует Россию, как представительницу славянского мира, первенствующею на европейском материке и между прочим высказывает оригинальную мысль (впоследствии поддерживавшуюся Катковым) о перенесении русской столицы в Киев. В этом он видел средство парализовать слишком широкие притязания поляков, а с другой стороны таким путем "Государь Российский сделается опять ближайшим соседом всех Славянских племен и легко может восстановить угасающую ныне надежду славян на Россию. Отдавая Киеву долг, Вы явите тем пример исторической справедливости; самые ныне беспокойные партии в России получат удовлетворение лучших своих желаний и направят тогда свою деятельность к развитию и осуществлению видов Вашего Величества; государство покроется новыми путями сообщения, а отсюда развитие народного благосостояния и приобретение миллионов благодарных сердец. А когда, Государь, Ваше решение будет иметь столько сторонников и фактов за себя, то никакие усилия ума человеческого не докажут, что Литва, Волынь и Подолия не принадлежат России; тогда и Польша восстановится уже по воле Вашего Величества".
Состояние здоровья фельдмаршала все ухудшалось. Вследствие этого кн. Барятинский послал Государю ходатайство об увольнении от должности наместника, указывая себе преемника в лице великого князя Михаила Николаевича. Увольнение состоялось в декабре 1862 г., причем кн. Барятинскому пожалованы были бриллиантовые знаки ордена св. Андрея Первозванного, при рескрипте, в коем между прочим сказано: "Подвиги храброй Кавказской армии, под вашим личным предводительством, и устройство Кавказского края, во время вашего управления, останутся навсегда в памяти потомства".
В последующие 16 лет князь не возвращается более к делам, хотя общественное мнение не раз в трудные минуты нашей государственной жизни вспоминало имя покорителя Кавказа. Личность князя далеко не представлялась современникам в ее истинном свете, тем не менее его имя пользовалось широкой популярностью, и его инстинктивно считали способным на действия чрезвычайной важности. Однако болезнь лишила его возможности оправдать справедливость этих ожиданий.
В год увольнения от должности наместника кн. Барятинский мог, наконец, жениться на давно любимой им женщине, Елизавете Дмитриевне Давыдовой, урожденной кн. Орбелиани. Этот брак был соединен со сложной романической историей, вызвавшей в свое время немало толков. Венчание происходило в Брюсселе, откуда новобрачные переехали в южную Англию. Отсюда кн. Барятинский вел деятельную переписку с Государем, извещая о своем здоровье и сообщая разные свои взгляды по вопросам внешней политики. Когда закончилась война на Западном Кавказе, Государь удостоил кн. Барятинского рескриптом о его заслугах и пожаловал ему золотую шпагу, украшенную алмазами. В 1866 г. в день празднования серебряной свадьбы Государя, кн. Барятинскому при милостивом рескрипте была пожалована золотая, украшенная бриллиантами табакерка с изображениями Их Величеств.
В этом году, в бытность свою в Царском Селе, в разговоре с В. А. Кокоревым фельдмаршал высказал свои соображения относительно тогдашнего прусско-австрийского столкновения. Кн. Барятинский полагал, что разгром Австрии должен быть совершен соединенными силами России и Пруссии, чтобы разделить ее на три части: из Венгрии образовать самостоятельное государство, славянские земли отдать России, а немецкие Пруссии. Для обсуждения этого плана собирался в Царском Селе, по Высочайшему повелению, секретный комитет, который однако отверг предположения кн. Барятинского.
Избранный в 1868 г. московским университетом в почетные члены, кн. Барятинский, приехав в Россию, временно проживал в имении графа Орлова-Давыдова, Серпуховского уезда, в кругу родственников и хороших знакомых, а затем переселился в свое имение "Деревеньки", Курской губ., принимал участие в земских делах и знакомился с положением крестьян. Результатом этого изучения крестьянского быта явилась записка, посланная князем А. Е. Тимашеву, в которой князь отрицательно отнесся к общинному землевладению крестьян, отдавая полное предпочтение подворной системе, как ограждающей принцип собственности. Тогда же фельдмаршал высказался по другому государственному вопросу, выступив противником военно-административных реформ Д. А. Милютина, усматривая в мнениях военного министра бюрократические начала, долженствующие нанести, ущерб духу армии. "Положение о полевом управлении войск в военное время" вызвало со стороны фельдмаршала резкую критику, и борьба его с военным министром приняла очень острую форму. По поводу "Положения" кн. Барятинский, по желанию Государя, составил подробную записку, в которой, доказывая, что "Положение" чрезмерно ограничивает власть главнокомандующего разными бюрократическими формальностями, настаивал на пересмотре "Положения". Пересмотр, однако, не состоялся, и лишь много лет спустя после смерти кн. Барятинского его мысли нашли осуществление в новом "Положении" 1890 года.
В 1869 г. кн. Барятинский жил в Италии, а в 1870 г. при свидании с Государем в Эмсе удостоился пожалования в пожизненное пользование имения Скерневицы близ Варшавы. В 1871 г. фельдмаршал зачислен в кирасирский Его Величества полк, где он начал службу, и в том же году назначен шефом 2-го стрелкового батальона. Сам Государь зачислил себя в кабардинский имени кн. Барятинского полк. Во время путешествия по Кавказу Государь рескриптом благодарил князя за его заслуги. В том же году фельдмаршал представил Государю записку о колонизации Кавказа западноевропейскими горцами. "Предоставьте, писал он, полную независимость национальности и культа, особенно для заселения гор и Закавказья. Пусть обращают внимание лишь на полезные качества колониста. Северная часть Кавказа, само собою, должна быть заселена русскими, но западные горцы более соответствуют Дагестану. Закавказье, объявленное porto franco, с большою колонизацией, снабженное банком, гарантированным правительством, основанным для успеха хорошо обдуманной системы орошения, привлекло бы землевладельцев из всех стран".
В 1873 г. кн. Барятинский был назначен шефом прусского № 14 гусарского полка, причем Император Вильгельм I обратился к нему с лестным рескриптом. Еще ранее, в предыдущем десятилетии фельдмаршалу были пожалованы знаки Почетного Легиона, при собственноручном любезном письме Наполеона III. В феврале 1874 г. Император Австрийский пожаловал кн. Барятинскому орден св. Стефана высшей степени. Члены Российского Императорского Дома не переставали осыпать фельдмаршала знаками милостивого внимания, в особенности же благосклонно к нему относился в Бозе почивающий Император Александр III, тогда еще Наследник-Цесаревич.
В 1877 г., при начале русско-турецкой войны, было одно время предположение, что заслуженный кавказский герой станет во главе русского войска, но это не осуществилось. За то во время Берлинского конгресса кн. Барятинский сам обратился к Государю с предложением своих услуг на случай могущей возникнуть европейской войны против нашего отечества. Государь ответил ему по телеграфу, что с удовольствием готов воспользоваться его услугами, и пригласил его в Петербург. В июне 1878 г. в Зимнем дворце кн. Барятинский усиленно был занят рассмотрением составленного плана военных действий против Австрии и Англии, но вопрос разрешился мирно.
Злая болезнь потребовала вскоре новой поездки кн. Барятинского за границу, откуда он уже не возвращался на родину. С первых чисел февраля 1879 г. состояние его здоровья сильно ухудшилось, и он почти уже не покидал постели. Горный женевский воздух не приносил желанного облегчения, и жизнь фельдмаршала на глазах всех присутствующих быстро угасала. Заниматься он почти не мог, и в настроении духа появилась тревога. Он сознавал, что дни его сочтены. В минуты облегчения, он настоятельно справлялся о здоровье Государя, выражал глубокую скорбь по поводу покушений анархистов на жизнь Его Величества и с тревогою рассуждал, что будет с женою после его смерти; однако при свидании с супругою, боясь ее расстроить, он не обнаруживал своих страданий и старался казаться спокойным. В ночь с 24 на 25 февраля он чувствовал себя особенно нехорошо. Днем 25 февраля ему сначала было несколько легче, но затем последовало быстрое падение сил и обморочное состояние. После одного сильного обморока он с напряжением всех сил встал на ноги, сказав: "Коли умирать, так на ногах", но сейчас же упал на кресло. К вечеру князь скончался в жестоких страданиях. Доктора, производившие бальзамирование его тела, констатировали прекращение кровообращения вследствие ожирения сердца.
Тело князя было привезено в Россию и предано погребению в родовом склепе села Ивановского. Наследник Цесаревич Александр Александрович присутствовал на похоронах князя; с Кавказа явились депутации от горцев и кабардинского полка.
А. Л. Зиссерман, "Фельдмаршал князь Александр Иванович Барятинский". - Его же, "Двадцать пять лет на Кавказе". - Н. Ф. Дубровин, "История войны и владычества Русских на Кавказе". - Д. И. Романовский, "Кавказ и Кавказская война". - Его же, "Князь Александр Иванович Барятинский и Кавказская война. Исторический очерк" (Русская Старина, 1881 г., т. XXX). - Записки В. А. Инсарского (Русская Старина, 1894 и 1895 гг.). - P. Фадеев, "Шестьдесят лет Кавказской войны". - H. H. Чичагов, "Шамиль на Кавказе и в России". - И. И. Ореус, "Граф Н. И. Евдокимов". - М. Я. Ольшевский, "Действия русских войск в Малой Азии в 1853-1854 гг.". - П. С. Николаев, "Воспоминания о князе А. И. Барятинском" (Исторический Вестник, 1885 г., № 6). - К. А. Бороздин, "Закавказские воспоминания". - А. Фадеев, "Воспоминания".
{Половцов}
Барятинский, князь Александр Иванович
(1814-1879) - воспитание получил домашнее, на 17-м году поступил в школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров с зачислением в кавалергардский полк; 8 ноября 1833 г. произведен в корнеты лейб-кирасирского Наследника Цесаревича (ныне Ее Величества) полка; в марте 1835 г. командирован на Кавказ, с отличием участвовал в делах закубанских горцев, ранен пулей в бок - и по возвращении в том же году в Петербург награжден золотой саблей с надписью "За храбрость". 1 января 1836 Б. назначен был состоять при наследнике цесаревиче (впоследствии императоре Александре II), а 24 марта 1845 по высочайшему повелению снова отправился на Кавказ, назначен командовать 3-м батальоном Кабардинского егерского полка, с которым принимал участие во всех выдающихся делах предпринятой летом того же года экспедиции в Дарго. Особенные отличия оказаны им 13 июня при поражении скопищ Шамиля близ сс. Гогатль и Анди. Раненный пулей в голень правой ноги навылет, он остался в строю - и в награду за оказанные подвиги получил орден св. Георгия 4-й ст. По возвращении в начале 1846 г. в Петербург Б. для поправления расстроенного здоровья уволен был за границу; но проездом через Варшаву принял по поручению фельдмаршала кн. Паскевича командование над летучим отрядом, назначенным для преследования и истребления краковских мятежников. Поручение это Б. успешно выполнил в 5 дней. 27 февраля 1847 г., по возвращении в Россию, он был назначен командиром Кабардинского егерского полка - и затем принимал постоянное участие в военных действиях в Чечне. 23 июня 1848 года он особенно отличился в бою при Гергебиле, за что награжден чином генерал-майора с назначением в свиту его имп. величества. В октябре 1850 г. Б. назначен командиром Кавказской резервной гренадерской бригады; зимой следующего года участвовал в действиях Чеченского отряда, при чем близ Мезенинской поляны разбил наголову атаковавшие его превосходящие силы неприятеля. 2 апреля 1851 г. Б. назначен командиром 20-й пех. дивизии и исправляющим должность начальника левого фланга Кавказской линии, - и с этим вместе открылось для него более обширное поприще для самостоятельных действий, обнаруживших вполне рельефно его блестящие дарования. Энергичный и вместе с тем систематический образ действий, которого он держался в Чечне - главной арене деятельности Шамиля, постепенное, но неуклонное движение вперед с твердым упрочением русской власти на раз занятых пространствах - все это представляло как бы новую эру в Кавказской войне. 6 января 1853 г. Б. назначен был генерал-адъютантом, а 5 июля того же года - исправляющим должность начальника главного штаба войск на Кавказе, а вслед за тем утвержден в этой должности. В октябре 1853 г. он, по болезни кн. Бебутова, был командирован в Александрополь для заведования действующим на турецкой границе корпусом; 24 июля 1854 г. участвовал в блистательном бою при Кюрюк-Дара, за который награжден орденом св. Георгия 3-й ст. 6 июня 1855 г. Б. назначен состоять при е. и. величестве, а затем ему поручено временное командование войсками в Николаеве и окрестностях. С 1 января 1856 г. он состоял командующим гвардейским резервным пехотным корпусом, а в июле того же года назначен главнокомандующим отдельным Кавказским корпусом (впоследствии наименованным Кавказской армией) и исправляющим должность кавказского наместника; в последней должности он утвержден 26 августа 1856 г. по производстве в генер. от инфантерии. Вступив в управление краем, по всему пространству которого велась нескончаемая война, стоившая России огромных жертв людьми и деньгами, кн. Б. оказался вполне на высоте своего назначения. Единство действий, направленных к одной общей цели, неуклонная последовательность в ведении их, выбор таких сподвижников, как Д. А. Милютин и Н. Е. Евдокимов (см. эти имена), - все это увенчалось блестящими результатами. Через 3 года по назначении Б. наместником весь восточный Кавказ был покорен и неуловимый дотоле Шамиль взят в плен. Заслуги эти доставили кн. Б. орден св. Георгия 2-й ст. и св. Андрея Первозванного с мечами. Одновременно с решительными действиями на Восточн. Кавказе велась энергичная война и в западной части этого края, приведшая к покорению многих племен, живших между рр. Лабой и Белой. За новые успехи Б. произведен в генерал-фельдмаршалы и назначен шефом Кабардинского пех. полка. Беспрерывная боевая деятельность и труды по управлению краем совершенно расстроили здоровье и прекратили блестящую карьеру князя: 6 декабря 1862 г. он был уволен, согласно прошению, от занимаемых им должностей с оставлением членом Государственного совета. В 1871 г. Б. зачислен в кирасирский ее величества полк и назначен шефом 2-го стрелкового батальона. Германский император также почтил заслуги Б., назначив его шефом гусарского № 14 полка германской армии. Последние дни своей жизни Б. провел за границей и умер в Женеве на 48-м году службы.
{Брокгауз}
Барятинский, князь Александр Иванович
Генерал-фельдмаршал, победитель Шамиля, род. 2 мая 1815 г.; получил прекрасное домашнее образование, причем отец его настойчиво желал "не делать из него ни военного, ни придворного, ни дипломата". Но у 16-летн. Б. явилось страстное влечение к воен. карьере; выдержав серьезную борьбу с родными, он, при содействии Имп. Александры Федоровны, добился зачисления в Кавалергардский п. (1831 г.). В первые годы своей офицерск. службы Б. вел очень рассеянный и легкомысленный образ жизни, чем навлек на себя неудовольствие Имп. Николая I. Тогда Б. отправился на Кавказ - тогдашнюю "школу характеров" - и принял участие в осенней экспедиции генерала Вельяминова в землю натухайцев, командуя сотней казаков, 21 сент. 1835 г. он был тяжело ранен в упор ружейн. пулей в правый бок, где пуля и осталась до конца его жизни, и едва не попал в плен. Эта рана заставила Б. вернуться в СПб. для лечения. Наградами ему за эти первые подвиги были: чин поручика, золотая сабля с надпис. "За храбрость" и назначение состоять при Наследнике Цесаревиче Вел. Кн. Александре Николаевиче. Взяв заграничн. отпуск (1835-38 гг.) и впоследствии, во время путешествия по Зап. Европе с Наследником Цесаревичем, Б. тщательно старался пополнить свое образование: много читал, слушал лекции в университетах, сближался с учеными и собрал библиотеку иностран. сочинений о России. Тяготясь светской жизнью, он в 1845 г., уже в чине полковника, испросил новую командировку на Кавказ. Командуя 3-м батальоном Кабардинского п., он участвовал в Даргинской экспедиции кн. Воронцова против Шамиля и при занятии Андийских высот (14 июля 1845 г.) геройски выбил со своим батальоном горцев из занятых ими укрепл. позиций, вызвав восторженные одобрения главнокомандующего кн. Воронцова. Наградой за это дело, в котором Б. вновь б. ранен, был орд. св. Георгия 4-й ст. Необходимость лечения раны заставила Б. опять отправиться в заграничн. отпуск. 28 февр. 1847 г. Б. б. назначен флиг.-адъют. и командиром Кабардинского п. Как полковой командир, Б. был весьма требователен, беспощадно строг в отношении воинской дисциплины, крайне внимательно входил во все мелочи полкового хозяйства и быта солдат и офицеров. Тратя при этом на полк свои собственные большие средства (напр., он на свой счет вооружил полк штуцерами), Б. из своей квартиры сделал средоточие всей жизни полка. Во время 3-летнего командования Кабардинским полком Б. принимал с ним участие в целом ряде боев. дел. В то же время Б. находил время изучать Кавказ, знакомился с русск. и иностран. литературой о нем, делал главнокомандующему ряд докладов стратегич. и администр. характера, высоко ценившихся кн. Воронцовым. В начале 1850 г. Б. подвергнулся немилости Имп. Николая I, который был недоволен тем, что князь не захотел привести в исполнение задуманный в высших придворн. сферах план - женитьбу его на М. В. Столыпиной. Чтобы обезопасить себя на будущее время от попыток устраивать его личную жизнь, Б. предпринял решительный шаг: он передал майорат, которым владел как старший в роде своему брату, вследствие чего сразу перестал быть "богатым женихом", прекратил свои светские знакомства, намеренно "опростился" и все свое время посвящал гл. обр. изучению вопросов, относящихся к любимому им Кавказу, всесторонне обдумывая план его окончательного покорения и способы его умиротворения. Отчисление от командования полком и нахождение "не у дел" без определенного служебн. назначения весьма тяготили Б. Но судьба скоро вновь бросила его на Кавказ: в мае 1850 г. он б. назначен состоять при Кавказской армии и сопровождать туда Наследника Цесаревича; в конце 1850 г. он б. назначен командиром Кавказской гренадерской бригады. 1851-53 гг. Б. провел в Чечне, настойчиво и систематически подчиняя ее русскому владычеству; из этого периода деятельности Б. надо отметить выполнение при его участии экспедиции в Бол. Чечню (лето и зима 1851-52 гг.), разгром наиба Талгика около Чуртугаевской переправы и занятие Хоби-Шавдонских высот в южн. Чечне (зима 1852-53 гг.). Действия Б. сперва в качестве ком-pa бригады, а затем, с весны 1851 г., - в качестве начальника лев. фланга, носили резко наступательный характер и отличались весьма малыми потерями, благодаря постоянному применению системы скрытных обходов, а равно тщательной и искусной разведке, и сопровождались проложе-нием новых дорог и лесных просек. Параллельно Б. должен б. посвящать немало времени административн. устройству замиренных чеченцев и организации воен.-народн. управления. В 1853 г. Б. был избран Воронцовым на должность начальника главн. штаба Кавказск. армии (на место Коцебу), произведен в генерал-лейтенанты, пожалован в генерал-адъютанты и получил, так. образ., возможность проводить в жизнь свой план завоевания Кавказа. Однако война 1853-55 гг. с Турцией поневоле приостановила активный характер наших воен. действий на Кавказе, и в борьбе с Шамилем пришлось ограничиться исключительно заботами о сохранении уже сделанных приобретений, обративши главн. внимание на нового врага. Этому врагу кн. Бебутовым было нанесено поражение у Ку-рюп-Дара (24-го июня 1854 г.); Б. принимал участие в этом деле и б. награжден орд. св. Георгия 3-й степ. Не ужившись с заместителем умершего кн. М. С. Воронцова - Н. Н. Муравьевым (1855 г.), Б. уехал в СПб., где его отъезд с Кавказа был встречен первоначально не очень благосклонно молодым Государем, но Б., отличавшийся большой ловкостью и знанием "придворных ходов", скоро сумел вернуть к себе полное расположение Императора и 20 июля 1856 г., после краткого командования резервным гвард. корпусом, был назначен командиром Кавказск. корпуса и наместником Его Императорского Величества на Кавказе, что составляло давнишнюю его мечту. Произведенный 26 авг. в генералы от инфантерии, он в октябре прибыл к Кавказск. армии, которая встретила с большим энтузиазмом его назначение, и начал свою деятельность немногословным, но многозначительным приказом по войскам: "Воины Кавказа. Смотря на вас и дивясь вам, я вырос и возмужал. От вас и ради вас я осчастливлен назначением быть вождем вашим, и трудиться буду, чтобы оправдать такую милость, счастье и великую для меня честь. Да поможет нам Бог во всех предприятиях на славу Государя". За энергичным приказом следовали и энергичные действия нового главнокомандующего, в 3 года приведшие к концу почти столетнюю борьбу. Б. ясно сознавал, что долее невозможно медлить с ликвидацией воен. действий на Кавказе: борьба стоила громадн. средств, мешала начать культурную работу в новой "жемчужине русской короны" и не позволяла создать из этого богатого края неисчерпаемый источник государств. доходов. Кроме того, незамиренный Кавказ представлял благоприятную почву для всех враждебных России агитаторов - английских, персидских, турецких и др. Ближайшими своими сотрудниками по воен. части Б. избрал Д. А. Милюкова (нач-к его штаба) и Н. И. Евдокимова (нач-к левого крыла). Затем следовало направление всех усилий к выполнению намеченного плана воен. действий. План этот в существен, чертах сводился к следующему: решительное наступление на вост. горцев со стороны Чечни и одновременное с этим стеснение существовавшей уже около них блокадной линии. Для этой цели Евдокимов должен был нанести удар Шамилю в Чечне и отсюда проникнуть в Дагестан, оккупировав предварительно Салатавию. Со стороны Лезгинской линии предполагалось постоянно и систематически ослаблять горцев разорением непокорных аулов, не допуская их подкреплять Шамиля. Действия на Зап. Кавказе, до окончания борьбы с Шамилем, признаны были второстепенными. Эта программа неуклонно и успешно выполнялась Б. в 1858-59 гг. и закончилась изолированием Шамиля в Ведене. Б. неоднократно лично объезжал действовавшие на Вост. Кавказе войска, всегда умел их воодушевлять, настоятельно побуждал частных начальников к большей быстроте и энергии в их операциях. В то же время эти объезды своим блеском, пышностью и щедростью главнокомандующего производили импонирующее впечатление на горцев, внушая им особое уважение к представителю Русского Царя. По занятии 1 апр. 1857 г. Евдокимовым Веденя и бегстве Шамиля в Дагестан Б. решил летом того же года с 3 сторон произвести наступление в Вост. Дагестан и окончательно сломить имама. Этот план он лично доложил Александру II в СПб. и получил полное одобрение своим предложениям; при этом Б. выразил Государю полную уверенность, что дни владычества Шамиля сочтены и что он этим же летом станет нашим пленником. Действительно, в авг. 1859 г., под личным руководством главнокомандующего, разыгрался у Гуниба последний акт борьбы с Шамилем. Об этом Б. объявил по Кавказск. армии следующим лаконическим приказом: "Гуниб взят. Шамиль в плену. Поздравляю Кавказскую армию." Успехи Б. принесли ему много высоких наград: за удачные операции в июле 1859 г., имевшие результатом покорение Аварии, Койсубу и др., - орд. св. Георгия 2-й ст., за Гуниб - орд. св. Андрея Первозванного, за действия на Зап. Кавказе в 1858-59 гг. - назначение шефом Кабардинского полка. Наконец, в 1859 г. Б. был произведен в генерал-фельдмаршалы. Эта последняя награда была встречена войсками с большим ликованием и считалось, по выражению со-времеников, "наградой всему Кавказу". В 1860 г. Б. занялся неотложными работами по воен.-администр. устройству покоренного края, принимал меры по усмирению проявлявшихся кое-где бунтовщических вспышек среди горцев и волнений среди Черноморского каз. войска, вызванных его упразднением. В этом же году, в сущности, завершилась и вся воен. и государств. деятельность Б.: в мае он, по растроенному здоровью, уехал с Кавказа в продолжительный отпуск и уже больше не вернулся к своему посту: осенью 1862 г. он обратился с ходатайством к Государю об увольнении его с занимаемой должности, указав себе преемника в лице Вел. Кн. Михаила Николаевича. В дек. 1862 г. просьба Б. была удовлетворена при крайне милостивом рескрипте, с пожалованием бриллиант. знаков орд. св. Андрея Первозванного и назначением членом Государственного Совета. С этих пор Б., мучимый припадками застарелой болезни (подагры), уже до самой смерти оставался не у дел, сохраняя дружеские отношения с Имп. Александром, от которого продолжал неоднократно получать знаки милостивого внимания... В этот период жизни Б. живо интересовался некоторыми современными воен. и политич. вопросами, высказывая оригинальные мнения. Так, в 1866 г., во время австро-прусск. войны, Б. полагал, что Россия должна тесно соединиться с Пруссией для разгрома Австрии, которую предполагал разделить на 3 части: из Венгрии образовать самостоят. государство, славянские земли отдать России, а немецкие - Пруссии. Для обсуждения этого плана в Царском Селе был собран, по Высоч. повел., секретный комитет, который, однако, не разделил взглядов Б. - Система воен. управления, проведенная гр. Д. А. Милютиным, встретила сильную оппозицию со стороны Б.: он резко критиковал ее "бюрократизм" и протестовал против чрезмерного умаления власти главнокомандующего в "Положении о полевом управлении войск в воен. время", высказывая на этот счет идеи, отчасти получившие осуществление впоследствии в "Положении о полев. управлении" (1890 г.). Перед началом русско-турецк. войны 1877-78 гг. возникло было предположение о назначении Б. главнокомандующим русск. армии, но не осуществилось. В 1878 г., возмущенный унижением России на Берлинском конгрессе, Б. сам обратился к Ймпер. Александру с предложением своих услуг для будущей войны и б. вызван в СПб., где при его участии и обсуждался план возможных воен. действий. 25 февр. 1879 г. кн. Б. умер в Женеве; похоронен он в своем родов. имении - селе Ивановском (Льговского уезда, Курской губ.). (А. Л. Зиссерман, Фельдмаршал кн. А. И. Барятинский; Д. И. Романовский, Кн. А. И. Б. и Кавказская война, "Русск. Стар.", 1881 г.; В. Л. Инсарский, Записки, "Русск. Стар.", 1894-95 гг. М. Я. Ольшевский, Записки, "Русск. Стар.", 1879 и 1894 гг.; А. А. Харитонов, Из воспоминаний, "Русск. Стар.", 1894 г.; П. С. Николаев, Воспомин. о кн. А. И. Б., "Ист. Вестн.", 1885 г., XII; другие источн. для биогр. Б. см. в "Русск. Биогр. Слов.", т. II, стр. 542-543).
 Греческий огонь: рецепт, изобретение и история легендарного состава Химик дюпре
Греческий огонь: рецепт, изобретение и история легендарного состава Химик дюпре Толстые оладьи на кефире как у бабушки Пышные оладушки рецепт от бабушек
Толстые оладьи на кефире как у бабушки Пышные оладушки рецепт от бабушек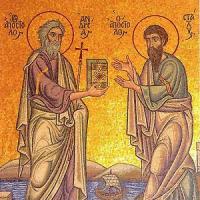 «Апостол Произведение полиграфического искусства ХVI века
«Апостол Произведение полиграфического искусства ХVI века Рецепт: Фруктовые салаты со сливками
Рецепт: Фруктовые салаты со сливками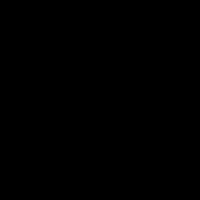 Яркая и непредсказуемая Близнецы-Девушка: сложности характера Как узнать что женщина близнецы влюблена
Яркая и непредсказуемая Близнецы-Девушка: сложности характера Как узнать что женщина близнецы влюблена Добро пожаловать в штаты США!
Добро пожаловать в штаты США! Всероссийский ежегодный конкурс для студентов финансовых специальностей
Всероссийский ежегодный конкурс для студентов финансовых специальностей